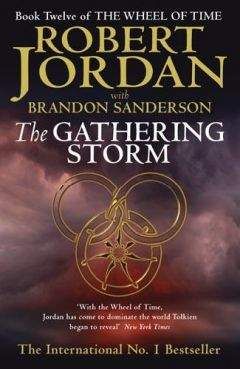— Боже.
Он не молился почти никогда, кроме как перед причастием или в качестве епитимий — но священник не назначал их уже давно. Отпустит грехи и всё. Саша ждал. Боль не утихала, напротив, в отсутствие прочей активности тела и духа расположилась вольготнее, заполняя его по края. Саша шевельнулся, поднялся со стоном, выудил из кармана брюк толстую зажигалку и открыл её корпус особым нажимом. В аптечке оставалось две белых таблетки, и Саша, морщась от горечи, сжевал обе. Потом он всё-таки сделал два-три шага до ванной, набрал в стакан воды из-под крана, запил таблетки и прополоскал рот.
Теперь действительно надо было помолиться — перед тем, что он собирался сделать. Можно бы подождать, пока боль не отступит, но нет, решил он, надо так. Пусть сегодня его епитимьей будет боль. Он опустился на пол, думая встать на колени, но тут его так скрутило, что он оказался на четвереньках, прижавшись щекою к плитке, почти в слезах. Плитка заботливо холодила лицо. Саша представил себе, как выглядит со стороны — корчащийся от боли в дешёвом отеле, отчаянный голый бездомный странник — и с горечью отметил: если бы враги увидели его в этот момент, они бы злорадно уверились в том, что он больной на всю голову психопат, почём зря взрывающий поезда и жилые дома убийца мирных людей. Он выпрямился и стал молиться.
— Pater Noster qui es in caelis…[5]
Он не пытался сделать молитву настолько искренней, насколько мог — это она помогала ему настроиться на особенный лад, чтобы перед Причастием сожалеть о своих грехах. Заученный латинский стих включал в сознании отключенный обычно модус, будто бы запасную операционную систему, в которой Саша мог без очевидного самому себе лицемерия каяться в том, что не доставляло ему ни малейших угрызений совести ещё секунды назад — и пару минут спустя, по завершении ритуала. Он попросил у Бога прощения за грехи пары последних дней — жестокость к дурочке в инфоофисе, злость на тех, кто днём занимал скамейки, кражу бутылки с фантой, карты — и за другие, неназванные грехи, которые сейчас не мог, был не в силах вспомнить. На всякий случай и за то, что косвенно погубил Ирму с Осей и остальных пятерых барселонцев. Что-то ещё?.. Вроде всё. Саша хрипло шепнул «Каюсь, Господи», перекрестился, потом, не глядя, протянул руку и взял свою зажигалку. Раскрыл тайник. Завёрнутая в папиросную бумагу, смоченная в Крови Плоть на вкус была, как всегда, пресным хлебом.
* * *
Отель Саша покинул через окно. Перемахнул через подоконник — и заскрипел зубами, приземлившись этажом ниже. Белые крыши и мансарды торчали друг из друга беспорядочными ярусами, словно теснящаяся в бетоне стайка поганок, и так же смутно бледнели в густеющей темноте. Тренированному человеку не составляло ни малейшего труда спуститься по ним на землю; не составило бы и Саше, если бы все эти прыжки не разбудили боль, уснувшую было в суставах. На безлюдной бетонной улице он хватился меча — неужто надо возвращаться? — но хлопнул по карману — а меч здесь, хотя Саша не помнил, как забрал его из ванной. Подобные вещи давно уже перешли у него в разряд неосознанных, как дыхание.
Эрнандо Барка восседал над городом в сумерках. Днём его трон сливался из жары и смога, и силуэт чудовища гнул к земле уродливые массивы бетона и кирпича. Ночь подменяла жару неоновым светом, но он успел захватить только самые оживлённые части города, отданные туристам. Над жёлтыми трущобами за полтора шага от световых артерий царила кромешная тьма. В лабиринте жилищных блоков, казалось, не было ни одного тёплого очага. Саша привычно ориентировался в чужих опасных местах, но на пути к Меридиана пришлось поплутать в потёмках.
Дон Барка мог быть везде. К часу ночи Саша оставил намерение как можно скорее его найти, и чувство давящего взгляда в спину исчезло. Само это чувство Саша отметил постфактум, когда оно оставило его, промучив целые сутки. Не то чтобы Саша недостаточно хотел переведаться с хозяином Барселоны или даже боялся, что причиняемая имплантатами боль лишит его боевых ТТХ, которые имплантаты даруют её ценой. Исход поединка так или иначе зависел от воли Божией. Саша не сомневался: будь это угодно Большому Боссу, он прикончит любого демона, что бы там ни было с ним самим. Просто срочности не ощущалось. Катастрофа местной ячейки вытянула из него все силы. Саша очень устал. На Меридиана он посидел в кругу света на пустой наконец-то лавке, чуть-чуть расслабился, а поднимаясь, отметил, что машинально подтягивает руками спадающие штаны — и решился поесть. Его часто тошнило от боли, желудок бывал словно полон расплавленного свинца, и Саша мог поститься дни напролёт. Нередко он просто-напросто забывал принять пищу.
Он побрёл по аллее, высматривая что-то полезное повкуснее, и искомое обнаружилось. В одной из освещённых ниш обитала турецкая лавка: салаты, пирожки, кебаб на вертеле. Аппетитная реклама обещала, например, дюрюм — жареное мясо в лепёшке с соусом и салатом. Три пятьдесят. Как раз то, что надо. У Саши оставалось шестнадцать евро медью и серебром. Он зашёл в лавку, указал на рекламу дюрюма и стал отсчитывать монеты. Средних лет турок вручил предыдущему покупателю рожок мяса с картошкой фри, стрельнул по Саше тёмным усталым взглядом и принялся неторопливо срезать с вертела кебаб. Острый длиннющий нож двигался будто бы без усилий, готовая корочка мяса спадала вниз на плиту, со свежего среза сочилась кровь. Вертел вращался, равномерно подставляя бока алым от жара прутьям. Плавный ход лезвия вызвал уважение. Надо же, как умеет. Движения, выверенные опытом — грамма лишнего не нажмёт. Должно быть, в старые времена янычары с такой же сноровкой резали христианские глотки. Старые времена съели черти, и янычар пустили в Европу без звука — дешёвый труд и удобный сервис добыли им то, что так и не взял ятаган. Саша прикинул, не купить ли что-нибудь другое, просто из принципа, но ничего сравнимого испанские кафе не предлагали. В бесчисленных безукоризненно европейских пиццах, булках и бутербродах с рыбой-ветчиной-сыром не хватало салата, цацики и подогретого хлеба, которые делали восточный фастфуд незаменимым.
В кафе вошёл низкий носатый смугляк с голым пузом и обратился к хозяину по-турецки. Они переговаривались, и пожилой турок начал мастерить для него кебаб. Своих обслуживают вне очереди. Может, свернуть им шею?.. Пузо малорослого янычара круглилось, как медный котёл. Саша представил себе, как бьёт в это пузо мечом, ведёт лезвие вверх, опережая крик, и тем же движением затыкает пасть продавцу. Поесть тогда уже не удастся. Саша стиснул в карманах брюк кулаки. Монеты врезались в ладонь. Турки продолжали тараторить на своём орочьем диалекте. Продавец сунул пузатому кебаб — такой толстый, что непонятно было, как он влезет ему в пасть — и тот ушёл, не заплатив. Продавец вынул из жаровни подрумяненную лепёшку, насыпал на неё мясо и быстро соорудил дюрюм.
— Four, — и он показал Саше четыре пальца, опознав в нём чужака. Число звучало упрощённо: «фо». Две фонемы, не три. Искорёженное английское слово вернуло повестку дня: такие турки были повсюду. Все европейские города могли похвастаться турками, их продуктовыми лавками и вертелами. Чуждые европейской культуре, они тем не менее здесь вписались, нашли себе нишу, работали, не афишируя этого, больше дозволенного, не хулиганили и исправно платили налоги. Они представляли собой одну из опор системы. Саша резиново растянул губы, шагнул к стойке, бросил на неё монеты и взял дюрюм. Еда в руке. А дальше?.. Его рвало туда-сюда между рассудочным запретом привлекать к себе внимание перед делом и адской жаждой убийства. Жажда одолевала. Саша улыбнулся ещё шире и заставил себя сделать шаг к выходу. Необязательно убивать, говорил ему Эдди; зачем. Бей в стену. Пни что-нибудь
.
Саша вцепился в эту память, в голос, позволил увлечь себя прочь, шаг за шагом по ломкой плитке из лавки, из круга тёплого света в ночь. Эдди был рядом, вёл его, молчал. Большой любитель поговорить, он молчал с той поры, как умер. На лице у него была кровь — Саша видел, скосив глаза; она лилась — темно-красные нити — по переносице вниз, со лба — из-под волос — но выше Саша не смотрел. Он сел под акацией на скамейку и впился в дюрюм зубами, ликуя и обмирая под Эддиным мёртвым взглядом.
* * *
Ночь перевалила рубеж, и Саша отправился к Башне. Прошёл с Меридианы назад к Травессера де Грация, где торчала бетонная пробка его отеля — «Эверест», не скромнее! — свернул в боковые проулки, углубляясь в безлюдный массив — жилых? или нежилых? зданий. Башня, в отличие от собора, не требовала подсветки. Она нависла над юго-востоком Барселоны, почти выделяясь из ночи. Слепые постройки перетекали в неё, как в вечность. Запустение надвигалось, Саша брёл будто сквозь чёрный снег. Внезапно Башня встала прямо перед носом, на расстоянии вытянутой руки. Саша коснулся стены ладонью. Тёсаный камень был лишён тепла, его не грело никакое солнце. В нём обитали подземелья, казематы, списки, копоть и ржавчина, кровь, звон цепей…