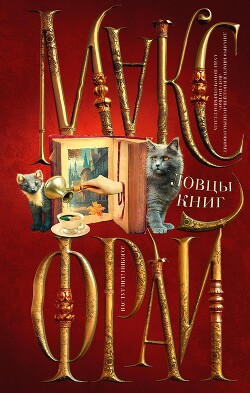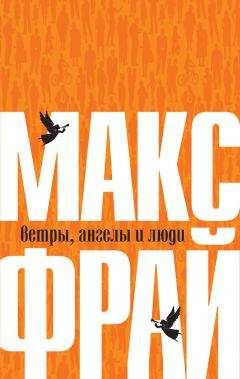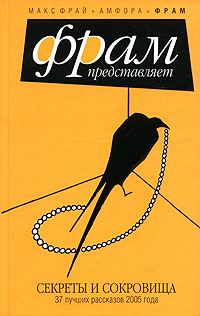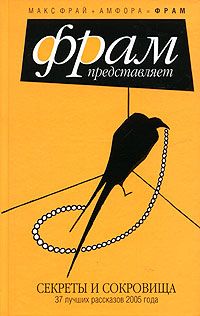«Так, – думал Миша (Анн Хари). – Саша сказал, я однажды все вспомню. Раз он сказал, так и будет. А вдруг уже есть? Может быть, я вот прямо сейчас начинаю вспоминать те события? Не ко времени, но выбирать не приходится, сейчас так сейчас. Если я несколько лет был художником, да еще настолько крутым, это, во-первых, красиво. А во-вторых, понятно, почему я об этом забыл. Такое в голове не укладывается. Не согласуется с моими представлениями о себе».
«Хватит, – думал Миша (Анн Хари). – Успокойся. Остановись. Благоприятна стойкость. И покерфейс. Я имею право хранить молчание. Вот и надо его хранить. Не орать, что это моя картина. Толку от этого все равно никакого. Только выступлю как полный придурок и псих».
Он почувствовал, что его обнимают, хотя на самом деле никто его не касался даже локтем или бедром. Самуил не сказал, но подумал так внятно, что Миша услышал: «Держись, дорогой. Эта картина реально сводит с ума, я сам еле выдержал. Да и то, кстати, не факт». И тоже не сказал, а подумал: «Уже все в порядке, спасибо. Умеешь ты успокаивать». Самуил коротко рассмеялся и вслух согласился:
– Да.
Его смех подействовал, как команда «отомри» в детской игре, все как-то сразу пришли в себя. Надя наконец заметила сидящего в центре стола кота Вурстера и принялась его гладить, Тим огляделся в поисках Трупа и на всякий случай крикнул: «Тебе помогать?» Сам Самуил подошел к окну, открыл его настежь и высунулся по пояс – дышать.
Миша (Анн Хари) отвернулся наконец от картины, сел на стул, яростно растер лоб и виски. Вспомнил цитату: «Я подумаю об этом завтра». «Унесенные ветром», Лена Бройген. То есть, автор, понятно, Маргарет Митчелл, а Лена Бройген (адрэле Адара Шу Ниса) ее отыскала и в Лейн принесла. И тоже, говорят, не особо любила, как я Стивена Кинга. Какие же мы все смешные! И какими причудливыми путями водят нас чутье и удача Ловца.
«Так-то лучше, – говорил себе Миша (Анн Хари). – Вот и думай про Стивена Кинга, про Лену Бройген, про все эти наши великие и смешные дела. Именно то, что надо. А картина – ну что картина. Просто морок на меня навела».
Вильнюс, никогда
Ванда просыпается – а вот, кстати, поди пойми, от чего она просыпается. Не от шума и не от яркого света, но с точки зрения Ванды это очень похоже на свет и шум. «Что за е… – сердито думает сонная Ванда и вдруг вспоминает: – Так у меня же Маринка! Нет, ну тогда нормально. Маринке все можно. Пусть включает свет и шумит».
«Раз все равно проснулась, – думает Ванда, – надо встать и пойти ее навестить. Может, Маринке чего-нибудь нужно, а она не знает, где взять, и не хочет меня будить».
Ванда встает, не включая свет (объективно, в спальне темно, но видеть эта темнота не мешает), осматривает себя. Точнее, она вспоминает: «Так, я всегда сплю в пижаме, значит, сейчас на мне тоже пижама; интересно, какая? Зеленая. Ну, хорошо».
Прежде чем выйти из спальни, Ванда долго стоит на пороге, ей сперва надо вспомнить, что за дверью – кухня? гостиная? коридор? «Так Маринкина комната! Они у нас смежные», – наконец вспоминает Ванда и переступает порог.
Маринка тоже в пижаме, синей в крупную клетку, сидит на диване среди подушек и одеял. Маринка прекрасней всех в мире. Темноволосая, рыжая, тонкая, толстая, кудрявая, стриженная под ноль. Ей, наверное, лет пятнадцать, а может быть, тридцать или, например, пятьдесят. То есть Ванда пока не вспомнила, какая Маринка, как выглядит, откуда взялась, кто она. Подружка? (Новая? давняя?) А может, сестра или дочь? Ванда потом это вспомнит (или придумает, или, внимательно посмотрев на Маринку, поймет). А сейчас она не ставит вопрос таким образом. Просто любит ее больше жизни, и все.
В руках у Маринки – что это за штука? Ванда пока не знает, но, если постарается, вспомнит. У Ванды обычно хорошо получается вспоминать.
– Приемник, – говорит ей Маринка.
Ну точно, приемник. Радио. Такой аппарат. Чтобы слушать музыку. И новости. Узнавать, что происходит в мире сейчас. «В мире! – изумляется Ванда. – Ну точно! Кроме нас с Маринкой и нашей квартиры, есть еще целый мир».
Это так прекрасно, что Ванда теряет дар речи. Но это не страшно. Во-первых, он скоро вернется. А во-вторых, подумаешь, великое дело, какая-то речь.
– Приемник молчит почему-то, – говорит ей Маринка. – Сломался он, что ли? Я сначала решила, аккумуляторы сели. Но это все-таки вряд ли. Он временами громко шипит и свистит.
«Шипит и свистит, – восхищенно думает Ванда. – А может быть, так теперь звучат новости? На каком-нибудь смешном неизвестном нам языке».
– Я проснулась, – говорит ей Маринка, – с мыслью, что надо срочно послушать радио. Мне этого захотелось так же сильно, как в туалет, или пить. А приемник у нас не работает. И это обидно. Я не знаю, как быть.
Ванда садится рядом с Маринкой. Берет у нее приемник. Он маленький, серебристый, а по краям голубой. Говорит:
– Сейчас вместе поищем радиостанцию. Вроде вот эту штуку надо крутить.
– Я ее и крутила, – вздыхает Маринка. – Не помогло!
Какое-то время приемник не реагирует на Вандины действия. Наконец раздается тихий треск и далекий, неразличимый шум, который понемногу становится громче и оказывается мелодией.
– Музыка! – восклицает Маринка. – Знакомая! Ты разбираешь? Какой-то, кажется, вальс.
– Точно вальс, – улыбается Ванда. – Еще бы хоть немножко погромче… А, так антенна же, слушай! Мы с тобой про антенну забыли. А она есть, просто сложена. Сейчас.
С антенной дело идет веселее, музыка становится громче; помехи в эфире все еще есть, но Ванде с Маринкой они не особо мешают. Маринка и Ванда сейчас не помнят, что бывает музыка без помех.
– «Осенний сон»! – наконец восклицает Ванда.
– Ну точно! – энергично кивает Маринка. – Он. Как же смешно совпало!
– Что совпало?
– Да все совпало. Сейчас как раз осень. Мы спим, и нам снится сон.
Ванда встает, подходит к окну, открывает его нараспашку, высовывается на улицу. Наконец говорит:
– Все-таки вряд ли осень. Весна, наверное. Каштан на той стороне зацвел.
– Весна? – переспрашивает Маринка. – Ну черт его знает, каштану виднее. Может быть, и весна.
У Маринки кудрявые светло-русые волосы, разные брови, прямая и с острым изломом, ореховые глаза, длинные ноги, широкие плечи, с виду ей чуть за тридцать, а сколько на самом деле, Ванда не знает, хотя они довольно давно знакомы, лет пять. Не то чтобы все это имело значение, просто Ванда наконец ее разглядела. И вспомнила, как они познакомились (это смешная история) на концерте в клубе «Карась». И что потом было (да чего только не было!). Хорошо, что она тут сейчас.
– Дурацкий вопрос, – говорит Маринка. – Ты, случайно, не хочешь пойти погулять?
– А пошли, – отвечает Ванда. – Грех такой ночью сидеть в квартире. Тем более спать.
Вальс умолкает. Из приемника раздается баритон (наверное) диктора. Он говорит: «В эфире ночные новости. Погода сегодня хорошая. Не знаю, что еще вам сказать».
* * *
• Что мы знаем о читателе?
Что читатель, как, впрочем, и зритель, и слушатель; ясно, что не любой, а только честно вкладывающий свое внимание, восприятие, волю, непреклонное намерение взять, культурный и личный бэкграунд, особенности мышления и так далее – такой же важный участник процесса, как писатель, художник и музыкант. Не «почти такой же», а именно равноправный партнер. Потому что шедевр, созданный живым сознанием, рождается именно в тот момент, когда другое живое сознание воспринимает произведение, неизбежно интерпретируя, адаптируя его для себя. Всякий шедевр – многократный процесс, вернее, сумма процессов. Каждая крутая книга, обретая своих читателей, постепенно превращается в сотни и тысячи разных книг. Картина, встретившая понимающих зрителей, точно так же превращается в десятки, сотни, тысячи разных, но в равной степени сильных картин. То же самое с музыкой, спектаклями, кинофильмами, и что там у нас еще есть. (Фуфла при этом, конечно, возникает немеряно. Но фуфло при взвешивании найдено очень легким, оно не в счет.)
Однако важно не это. То есть, и это тоже, но есть кое-что поважней. Мир, на фоне которого мы маемся своей человеческой дурью, в этом смысле – тоже мелодия, текст и картина. Без хорошего зрителя его как бы и нет. Становясь соавтором Творца, человек наконец-то принимается за работу, ради которой он нужен на этой земле. И гонорары у нас – закачаешься. Только соавтор Творца по-настоящему жив.