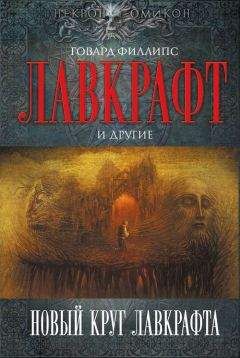Следующие несколько недель Энейбл провел в состоянии крайней подавленности. Естественно, на следующее же утро после печального инцидента на Уступе Дьявола я уведомил миссис Энейбл о том, что ее сын серьезно занемог, утаив от нее самые ужасные подробности. Она тут же оповестила семейного доктора. Тот сразу же осмотрел моего друга в его комнате. Однако доктор МакДональд не обнаружил никаких физических признаков недомогания, однако после моего весьма сдержанного рассказа заключил, что Энейбл, видно, перенес сильнейшее нервное потрясение, подорвавшее его душевные силы. Через два дня Энейбл пришел в себя, но оставался слишком слабым для того, чтобы говорить или передвигаться без посторонней помощи. Стало ясно, что друг мой не может долее находиться в квартирке на Хейл-стрит. С помощью доктора МакДональда (весьма крепкого и сильного человека) я погрузил Энейбла в машину и перевез его в дом матушки на Велли-стрит. Миссис Делизио, глядя, как несем мы беднягу вниз по лестнице, роняла слезу и приговаривала: как жаль, такой воспитанный, вежливый молодой человек — и надо же, какое с ним приключилось несчастье…
Миссис Энейбл не хотела вмешивать в это дело полицию, однако опасалась сектантов, доведших ее сына до столь плачевного состояния, — те, похоже, до сих пор таились в окрестных лесах. Поэтому она попросила меня и моих друзей отправиться в окрестности Уступа Дьявола на разведку. Миновала неделя с ночи Всех Святых, и я уговорил троих однокурсников — Хейлблума, Салливана и Клейна — отправиться на прогулку и понаблюдать за птицами (таков был официальный предлог) в дневное время, чтобы узнать, там ли еще Харпер с компанией или сбежали. Во время нашей орнитологической экскурсии я не обнаружил никаких следов человеческого присутствия в лесах — ну разве что разбросанный мусор. Оставалось предположить, что с наступлением холодов сектанты предпочли разойтись по домам. Однако такой опытный и хитрый бродяга, как Харпер, вполне мог затаиться и остаться здесь на зимовку. Миссис Энейбл, узнав, что сектанты снялись с лагеря и ушли, облегченно вздохнула.
Все то время, пока Энейбл пребывал запертым в четырех стенах отчего дома, я навещал его по крайней мере раз в неделю. Усевшись у изголовья больного, подробного пересказывал университетские новости, делился успехами и неудачами в учебе — но ни словом не поминал ни сектантов, ни Уступ, ни обрушившиеся на нас в ночь Хеллоуина неприятности. И хотя, судя по тому, что говорила его матушка, Энейбл вполне мог поддерживать уже беседу в течение короткого времени, со мной он оставался нем, как рыба. Он устало прикрывал глаза и отворачивался к стене. А когда его блестящие карие глаза устремлялись на меня, в них читался упрек. Я стоически переносил подобное отношение — в конце концов, друг мой претерпел столь сильное душевное потрясение, что от него невозможно было ожидать благовоспитанного поведения. К тому же он мог снова замкнуться в себе — уж я-то, как лучший друг, лучше других знал, каким Энейбл может быть молчаливым и скрытным.
Так или иначе, но здоровье моего друга быстро шло на поправку, и к концу ноября он уже мог сам вставать с постели и ходить по комнатам. В начале декабря Энейбл начать выходить из дому на короткие прогулки. Однако особенности его телесного строения делали беднягу, и без того ослабленного долгой болезнью, крайне уязвимым для холода. Поэтому Энейбл не мог покидать дом надолго. Тем не менее за подобное ограничение его домашние склонны были благодарить судьбу — ибо друг мой принялся снова толковать о походе на Уступ. Миссис Энейбл в ужасе рассказала мне об этой навязчивой идее сына: естественно, она не могла позволить несчастному вернуться на место, где он пережил столь серьезное потрясение, и взяла с меня обязательство сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать осуществлению этого безумного плана.
Увы, но душевное состояние Энейбла совершенно не изменилось к лучшему. Он оставался таким же замкнутым и отрешенным, словно бы всю колоссальную энергию, накопленную за лето (а я прекрасно помнил, каким возбужденным и живым он тогда выглядел) он израсходовал в той единственной вспышке в ночь Хеллоуина, и теперь в нем не осталось ни искры, дабы поддержать его угасающее существование. В университете наш декан вошел в положение и не отчислил Энейбла, хотя тот, конечно, не смог сдать экзамены за осенний курс.
Вернувшись в Аркхэм после рождественских каникул, я, к несказанной радости, обнаружил, что Энейбл снова поселился в нашей квартирке на Хейл-стрит. Мы обменялись приветствиями, с его стороны весьма многословными, но не столь сердечными, как раньше. Но по крайней мере к нему вернулась прежняя живость.
— Ах, Винзор! — воскликнул он. — Надеюсь, ты хорошо провел время в родительском доме! С новым 1929 годом! Доктор МакДональд счел, что я достаточно окреп, чтобы вернуться к занятиям в Мискатонике, что меня весьма обрадовало! Влачить существование инвалида — не самое приятное времяпрепровождение, должен тебе доложить.
Что же до всего этого дела с сектой, могу тебя заверить, что волноваться более не о чем. Забудь об этом — я все, все осознал. Не стоило мне связываться с силами, с которыми человек разумный никогда в жизни не свел бы знакомство. Я настолько увлекся тайным знанием, что утратил чувство реальности — за мной водится такое, я ведь тебя об этом когда-то предупреждал. И должен признать, ты был прав, не доверяя Харперу. Он вовлек меня в заговор в буквальном смысле космического масштаба — но тут, как гром с неба, явился ты и спас меня в мгновение ока. Все, с меня хватит, я больше в эти игры не играю, будь покоен. И даже говорить более об этом не хочу — и ты уж, пожалуйста, поддержи меня в этом начинании. Давай обо всем забудем — прошлое должно остаться в прошлом.
Так и вышло, что вместо полных и детальных объяснений всеми происшедшему (некогда торжественно мне обещанных) Энейбл просто заверил меня в том, что стал на путь истинный. Ну, к этому моменту все, что я хотел узнать об этом ктулхианском культе, я уже узнал (причем узнал даже больше, чем хотелось бы) — набор бредовых псевдомистических идей, которыми вскружили голову моему несчастному другу. И я остался доволен тем, что столь неприятная тема была наконец-то закрыта, и надеялся, что никогда более не услышу о лесной секте и ее верованиях.
И хотя Энейбл все еще не очень твердо держался на ногах, у него вполне получалось доезжать до университета и возвращаться с занятий на трамвае. Занимался он весьма прилежно, гораздо лучше, чем в осеннем семестре, однако я чувствовал — душой он далеко. Не раз я заставал его рассеянно глядящим в окно гостиной — туда, где над верхушками деревьев подымалась серая верхушка Уступа Дьявола. И не раз, подозреваю я, пытался он пробраться к утесу напрямик, по отвесной тропе, но снег и гололедица заставили его передумать. Когда он попросил отвезти его к поляне для пикника на Болтон-роуд, я отказался. Он смерил меня свирепым взглядом, а затем замкнулся в обиженном молчании. Затем он, видимо, уже не хотел навязываться и более не поднимал этой темы.
Зимний семестр тянулся и тянулся, и Энейбл становился все неразговорчивее. Периоды совершенной апатии чередовались у него с приступами лихорадочной активности. Он уже даже не пытался завести со мной беседу, ограничиваясь предметами бытовыми и насущными. «Передайте мне, пожалуйста, соль», — вот и все, что слышали от него мы с миссис Делизио. Я терпеливо сносил его грубость и невоспитанность, ибо они меня скорее огорчали, чем сердили. Очевидно, друг мой еще не полностью оправился от душевной болезни. И несмотря на мои бурные возражения, он продолжал читать глупостные и дурацкие книжонки всех этих Чемберсов и Бирсов.
Однако в феврале к нему стали приходить сны. Ночью из спальни часто доносились крики, но я так и не смог разобрать слов. А после одной особо бурной ночи он вышел в гостиную совершенно изможденный, но во власти странного возбуждения и с горящими глазами — таким я его не видел с лета. Мои попытки дознаться до правды ничего не дали: Энейбл уклончиво отвечал, что его мучили кошмары, но окрыленный и довольный вид слабо вязался с этим. О том, что же ему снилось, он, конечно, ничего не рассказывал.
Однажды ночью я весьма поздно вернулся с веселой вечеринки в общежитии Каппа-Сигма и через закрытую дверь услышал, что Энейбл разговаривает во сне. Прижав ухо к двери, я сумел различить следующее:
— Он обещает прийти снова… Уступ Дьявола слишком далеко… нужно попытаться еще раз… я не могу оставить Его… Он не оставит меня… пропеть мантру Дхол… Ньярлахотеп…
Как вы понимаете, я не на шутку встревожился: всю эту тарабарщину мой друг нес на обратном пути в Аркхэм той памятной ночью, однако с тех пор ничего такого мы от него не слышали… Одним словом, мне пришлось смириться с мыслью, что душевный недуг Энейбла гораздо серьезнее, чем я думал, и не так-то легко поддается лечению. Видимо, вскоре нам предстояла консультация психиатра. Однако вскоре события обернулись совсем иначе, и, размышляя над прошлым, я вовсе не уверен, что смог бы изменить их ход и отсрочить трагическую развязку.