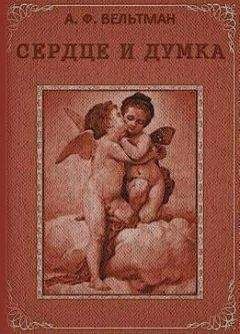Многие говорят, что наша одежда несоответственна климату, что балы скучны, а маскарады глупы; но это говорят только мужчины с охладевшими и испорченными от употребления сердцами; от женщин подобного дизлогизма никогда не услышишь; они только часто жалуются на климат, и эта жалоба очень справедлива, особенно во время страданий от простуды. И в самом деле, что может быть хуже климата, где после нескольких кадрилей и галл спады на своих на двоих нельзя выпить даже стакана холодной воды для прохлаждения; где, раскалившись в пылу мазурки, нельзя ждать в сенях кареты с открытой головой и распахнутым манто? Что это за варварский северный климат, где даже любовь надо кутать притворством и разогревать лестью; где надо делать на заказ по крайней мере стихии, необходимые для жизни: теплый воздух и теплые воды; где может водиться только оранжерейная поэзия, и где язык так холоден и тяжел, что всякое нежное существо не в силах употреблять его и должно довольствоваться только истертыми от употребления фразами языка иноземного?..
Но как бы то ни было, а вторник настал, пора ехать в собрание.
В собрании почти никого еще нет; только пилигрим в коричневом хитоне забрался спозаранку в озаренную залу, ходит, поглядывает на двери, выжидает Кассандру. А Кассандра еще с утра в ужасном раздумье: она почти раскаялась уже в неосторожности своей, не решается ехать в собрание; но Мери, как будто назло, явилась к ней.
— Я приехала пригласить тебя сегодня ввечеру к себе, — говорит она ей значительно, — истинный друг никогда не бывает лишним.
— Я еду в собрание, — отвечала Лида, — извини меня. У вас верно, будут Лиманский, Бржмитржицкий…
— Бржмитржицкий? избави боже! я никогда не выхожу, когда он приезжает; он мне надоел: я видеть его не могу с тех пор, как он стал явно показывать свою претензию на меня!
— А я думала, что он успел заслужить сколько-нибудь внимания за свои угождения.
— Помилуй! можно ли больше ненавидеть человека, как я его ненавижу? Он опротивел мне ужасно еще во время затеянных живых картин; я не рада была, что пригласила его участвовать.
— Отвратительное притворство! — подумала Лида.
— Ты не можешь себе представить, Лида, как несносно волокитство мужчин, когда уже любишь одного; особенно нестерпимо волокитство настойчивое, которое напитано надеждами на взаимность: это так досадно, что я тебе выразить не могу! Что делать с подобным глупцом, как, например, этот Бржмитржицкий: он даже мое невнимание к его словам и грубые ответы считает признаками любви и всеми средствами старается высказать свою любовь, воображая, что я не понимаю его или испытываю… каково тебе кажется это?
— Низко, гадко! ничего не может быть хуже двуличности! — произнесла Лида с негодованием вместо ответа.
— Потому-то я и ненавижу этого человека, — продолжала Мери, не подозревая настоящего смысла восклицаний Лиды, — и что еще хуже:, он может вредить мне во мнении Лиманского.
— Это невыносимо! — вскрикнула опять Лида.
— Ей-богу, невыносимо! — повторила Мери, прощаясь с Лидой.
Когда удалилась она, на лице Лиды выразилось все чувство ненависти к Мери. Она решилась ехать в собрание — так, рассеять себя; ибо она была уже уверена, что Лиманский, приглашенный к Зарским, не будет там.
Приклонившись на ручку кресел, она погрузилась в задумчивость; но часто взоры вспыхивали каким-то беспокойством, грудь волновалась; Лида вскакивала с места и искала в комнате и в окне какого-нибудь предмета, который бы рассеял ее черные мысли.
— Ты нездорова, Лида? — сказала ей мать, когда она уже собиралась в маскарад, — ты не похожа сама на себя; лучше остаться дома.
— Я рассеюсь, и головная боль пройдет, — отвечала Лида.
И они поехали в собрание, где пилигрим смиренно сидел уже за колонной на лавке, близ самых дверей, и всматривался во всех приезжающих. Едва заметил он розовую пилигримку — проводил ее глазами в омут залы и быстро прокрался к выходу.
Подле самых дверей, в передней, слуга подал ему шубу; и они спустились с лестницы, вышли в длинные переходы со сводами, ведущие к заднему крыльцу или подъезду.
— Узнал?
— Как же-с: и человек-то знакомый, из наемных.
— Кто такие?
— Да просто Нильская с дочерью. Будто?
— Ей-богу: так-с!
— Хм! а я думал… ну, да все равно: смотри же ты, не говори своему знакомцу…
— Что ж мне говорить? Уж известное дело, что наш брат должен молчать.
Пилигрим возвратился в залу, обегал толпы, отыскал розовую пилигримку, следит за ней, догоняет, подходит и кланяется ей и ее спутнице как знакомым.
Лида беспокойно осмотрела его с головы до ног; а ее мать отгадывала, кто он.
— Вы меня, верно, не узнаете? — пропищал пилигрим.
— Нет! — отвечала Лида.
— Кассандра должна знать, — сказал он, приклонясь к ней. — Вы не откажетесь танцевать со мною кадриль?
Пилигримка подала ему руку. Рука ее дрожала.
— Я не надеялась, что вы будете здесь!
— Отчего же-с?
— Отчего?.. спросите у своего сердца…
— Если б в самом деле передо мной стояла пророчица Кассандра, то не думаю, чтоб и она знала тайну моего сердца.
— О, знает, очень знает… и жалеет об вас!..
— Правда, я стою сожаления, потому что люблю ангела, который презирает любовь и ненавидит мужчин без исключения; но вы не знаете…
— Она презирает любовь? ненавидит мужчин? и она это вам говорила? Какое притворство!
— Притворство? Нет, многие испытали на себе, что это не притворство, в том числе и я…
— И вы?.. сожалею о вашем заблуждении!
— Не знаю, кто вы, и не понимаю цели вашего участия во мне; но желал бы знать это.
— Участие мое имеет одну цель: предостережение.
— Позвольте же узнать, от кого и от чего вы меня предостерегаете?
— Разумеется, от той особы, которая говорит, что она ненавидит мужчин…
— От Людмилы Нильской?..
Смущение пилигримки при этом вопросе мог чувствовать только ее кавалер, который держал в это время ее руку; он должен был даже напомнить ей, что пора начинать фигуру.
Лида едва могла сойти с места.
— Вы успели выпытать тайну мою; впрочем, я не решусь никогда открыть ее только той, которую люблю… без надежды… Согласитесь же теперь, что ваше предостережение было излишнее: Нильская, может быть, и не подозревает, что есть человек, который будет вечно таить чувства свои от нее…
Пилигримка ничего не отвечала; казалось, что она постепенно лишалась своих чувств. К счастию, кадриль скоро кончилась.
— Предскажите же, Кассандра, участь мою! — сказал пилигрим, раскланявшись с Лидой, но провожая ее до места, где сидела ее мать.
— За откровенность вашу, — с трудом проговорила она, — и я буду откровенна: я шутила… мне хотелось только знать, кого вы любите…
Лида подошла к матери; они прошли несколько раз по зале и вдруг скрылись.
— Ай, девочка! — шептал про себя пилигрим. — Про кого бы это она говорила? Верно, не про себя?.. Просто влюблена в Лиманского и хотела испытать, занят ли он кем-нибудь или нет… Теперь она в полной уверенности, что Лиманский тайно ее обожает… Чудная шутка!.. Пусть ее страдает!
XIII
Можно себе представить положение Лиды: трех слов достаточно, чтоб перепутать все мысли девушки. Ни к одной вольной, пугливой птице не подкрадывался охотник под щитком зелени так близко, как любовь подкралась к сердцу Лиды. Избранная для нее стрела была выточена из ядовитого дерева; кровь закипела, вспыхнула, и Лида, как безумная, безотчетно повторяла только: «Он любит меня! он меня любит!» — и как будто по инстинкту жаждала утолить все чувства противуядием; но оно заключалось на устах Юрия.
Вскоре после рокового для Лиды вторника Бржмитржицкий наслаждался, как демон, успехом своей мистификации. Сердце Лиды для него было уже разгадано, и он видел, как она, таясь от всех, впивалась очами в Лиманского н, в безмолвии то чему-то радуясь, то о чем-то грустя, изменялась в лице, преследовала его в толпе, смущалась, когда он проходил мимо, и обращалась в купу пламени, когда он стоял подле.
— Вот это любовь! это завидная любовь! — думал Бржмитржицкий, злобно улыбаясь. — Хм! мне нет счастья! не только такого глупого, слепого и расточительного, как Лиманскому; но даже рассудительного, умеренного, без излишних претензий!.. Ха! Тысёнц-тысёнцы дьяблов! Эта merry Mary[78] так насмеялась над моим простодушием, что я готов выместить ее презрение на всех неземных существах! Мне нужны только перья этих райских птиц, — одна поплатится за другую!
— Что ты так весело задумался? — спросил Лиманский, подходя к Бржмитржицкому, — верно, выиграл?
— Нет, князь, совсем не весело: думаю отправиться из Москвы. Нет счастья ни в невестах, ни в картах!
Кстати, должно сказать, что Лиманский случайно познакомился с Бржмитржицким в Бердичеве; знал его ремесло, но считал добрым малым; он в самом деле был добр для всех, с кем ни садился играть в карты: был уступчив, снисходителен, даже честен, потому что карточный долг для него был важное дело: он готов был отдать на уплату его не только все движимое и недвижимое именье, но даже носильное платье, которое и по законам не идет в уплату. Поговаривали, что он нечисто играет; однако ж никто не поймал его в шулерстве; притом же, садясь метать, он всегда, шутя или не шутя, сам говорил: «Господа, прошу смотреть в оба, а не то передерну; кто меня поймает, тому отвечаю всем, что есть на столе».