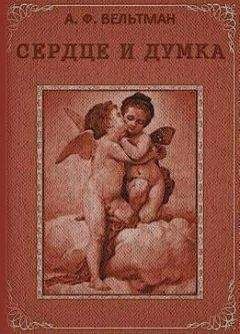Несмотря, однако же, ни на какую погоду, 1-го мая вся Москва должна ехать на гулянье в Сокольники, сквозь огнь и воду. Москва не откладывает до другого дня своих заветных удовольствий — избави боже! «Хотя бы небеса гром, молнию бросали»[81] — что за беда? — кареты не промокнут, у колясок есть верх; у семейных, дрожек, есть фартуки; у их милости, отправляющихся четами на извозчиках, есть ситцовые балахоны и платочные чехлы на шляпы; а у простого народа есть широкий подол и здоровье, не боящееся простуды… Следовательно, всем бог дал от непогоды защиту, которою можно воспользоваться во всякий час, не только что в день господский, праздничный, в день 1-го мая.
Издавна Москва славилась людской простотой и толстотой да золотыми маковками; теперь не то стало, как проведали, что простота хуже воровства, а толстота не по доходам, а золотые маковки не по чину. Теперь Москву нельзя назвать и старушкой — обидится: помолодела она или только молодится, под белилами и румянами — не узнаешь; мужички ее перестали бражничать, стали важничать да барничать, вместо горячего сбитню чаи распивают.
Правду сказать, что в старину не красна была Москва углами, а красна пирогами; ни ворота, ни сердце не были на заперти; но по латинской пословице «что время, то нравы» теперь и покорно просим устарело, и покорно благодарю не в моде; только мое почтение разъезжает в праздники по улицам само или рассылает на извозчике свое имя, отчество и фамилию: его угощают теперь стулом да красным словом. Была велика Москва, теперь стала широка; бывало, в Москве в свои козыри играли, было много на руках и козырей, и масть хороша; а теперь Москва вистовать пошла. В старину было житье, теперь другое. Старички хвалятся житьем, а мы бытьем; но что было, тому вынем часть за упокой, а что есть — за здравие.
Несмотря на пасмурную и спрыскивающую погоду, народ шел саранчой на гулянье с утра; а экипажи загремели после обеда, и все тянулось в Сокольники, встречать 1-е мая.
Фанни также с папинькой, с маминькой и с сестрицами ехала в Сокольники пить чай в сосновой роще. Фанни была пасмурна, как погода: ей купили не по вкусу шляпку, шляпка тяготела над ее головою, как свинцовая. Перед самой заставой перегнал их аэрьен,[82] полный прекрасных шляпок Особенно на одной девушке, разряженной в папирус, шляпка была открытая батистовая с сиренью — такой формы, с такими лентами — белыми, с узенькой лиловой полоской, — так хороша, что сердце Фанни запрыгало, заговорило: «Ах, что за ангел в этой шляпке! ах, как бы я желала быть на се месте!»
Стоило только пожелать: для волшебного сердца на сорочьих крылышках нет ничего невозможного: оно перепорхнуло в аэрьен, перелилось в папирус и батистовую шляпку.
Корсет немножко туго натянут, башмаки жмут немножко — да это ничего: талия тоньше, ножка красивее; только одна уже мысль тревожит сердце, торопит на гулянье: скоро ли! скоро ли!
Вот аэрьен уже в ряду экипажей, посреди рощи.
— Вот и я! — говорит чувство девушки в батистовой шляпке. Все сидящие с ней в аэрьене величают ее Любовью Аполлоновной. Верно, она знатна, богата, прекрасна собой, что ни тетушки, ни сестрицы, ни подруги не обмолвятся, не назовут попросту: Любовью, сестрицей и другом. Голова ее, величаво откинувшись назад, жеманно изгибается на все стороны.
— Даша, поправь мне на плечах манто! — говорит она повелительно сидящей подле нее миленькой девушке.
И Даша послушно накидывает опавшее с плеч манто.
— Maman, — говорит она сидящей вправо почтенной даме, — вы совсем загородили меня своей огромной шляпой!
И maman жмется к краю, перестает выглядывать в ряды экипажей.
— Ах, как скучно! Rosine! подвинься! — говорит она девушке, сидящей напротив.
И Rosine отклоняется в сторону, дает место для направленного лорнета Любови Аполлоновны.
Никто не проедет мимо, чтоб не обратить особенного внимания на аэрьен и на девицу Далай-ламу,[83] и все шепчет соседу свое удивление. У Любови Аполлоновны так и стучит, колотит сердце от самодовольствия; она нехотя отвечает на вопросы окружающих ее. У нее, должно быть, очень много знакомых: со всех сторон поклоны; но она редко отвечает на них; когда ей нужно показать невнимание или позволить налюбоваться на себя, она очень ловко осматривает свой наряд и как будто поверяет глазами: тут ли ее пышные груди, окаймленные блондами и кружевами? Тут ли бриллиантовый фермуар? ловко ли лежат нити бурмицкого жемчугу?[84] — Как должна быть хороша она! Весь ряд экипажей, проезжающих по другую сторону, не сводит с нее глаз. Как хорошо сердцу жить в таком теле: счастье и всеобщая любовь, кажется, преследуют его! Как легко ей дышать, как легко быть умной, добродушной! Как удобно выбирать из теснящейся вокруг толпы и друга, и подруг! быть властительным существом посреди безграничного царства, встречать в пяти частях света, на суше и море, подданность, угодливость, внимание, предупредительность, услужливость и все общественные добродетели!.. Но кто же так могущественен? красота или богатство?.. Хорошо соединить в себе красоту — наследие небесное, с богатством — наследием земным!
— Аглаэ, ты не слыхала ничего еще про Мери?
— Это верно, что она сбежала с этим… гадким Бржми… и вышла за него замуж; говорят, что теперь он ведет с дядей ее процесс насчет именья…
— Аглаэ, кто это проехал верхом?
— Где?
— Я не понимаю, где у тебя глаза! на что ты смотришь!
— Я, право, не заметила.
— Это глупо, моя милая!
— Кажется, это проехал князь Лиманский.
— Кажется!.. Можно бы было поклониться, по крайней мере, проезжая мимо знакомых!
Объехав круг гулянья, аэрьен подъехал к палатке, обставленной цветами, где приготовлено было уже все, что так худо в слове освежающее и так хорошо в слове refraichissant;[85] так грубо в слове лакомство и так утонченно, звучно, сладко в слове bonbon.[86]
Любовь Аполлоновна была что-то сердита; она бросилась в кресла внутри палатки и глубоко вздохнула с восклицанием совершенно ненужным: «Ах, как я устала!»
Все сопутницы ее если па террасе палатки смотреть на гуляющих, искать пищи для пересудов; только Аглаэ, и роде компаньонки, оставалась подле Любови Аполлоновны.
— Ступай, Аглаэ, я хочу немного быть одна, — сказала ей Любовь Аполлоновна голосом истомленным.
Аглаэ вышла, задумчивость Любови была прервана пискливым восклицанием:
— Ah! M-r le Prince![87]
Любовь вздохнула, прислушалась: чей голос? — и вдруг приняла пленительное положение: выставила наружу ножку, обутую в шелковый башмачок, припала на руку, закрыла глаза. «Волшебница!» — сказал бы каждый, видя ее в очаровательном положении.
— Стул-стул! — раздалось вне палатки, но гость сам влетел в палатку за складным стулом.
Это был Лиманский.
— Ah! — произнесла Любовь Аполлоновна, как будто вдруг очнувшись от задумчивости. — Вы также на гулянье?.. мы вас не встретили… вы, верно, с Свирскими?
— Нет, я один.
— Не правда ли, что она похорошела с тех пор, как вышла замуж? бледность к лицу ей?.. Но я никак не отвыкну называть ее просто Лели: она совсем не похожа на замужнюю; она живет здесь, а муж бог знает где; они, верно, разойдутся… Как вам нравится ее красота? не правда ли, она, можно сказать, лучше всех?
— Я с вами не согласен; может быть, потому, что красота есть вещь условная.
— Какого же рода женщина вам может нравиться?.. какие условия необходимы для вашего идеала?
— Я вам сказать этого не могу; идеал красоты один для всех: совершенство внутренней и наружной природы, образованное по совершенству понятий современных.
— Но вкусы различны… Я бы желала знать ваш вкус… Мужчины так таинственны, скрытны… их наружность всегда противоречит сердцу…
— Напротив, это, кажется, составляет более свойство женщин.
— Как вы злы!… и между тем ошибаетесь! Женщина слабое существо, она не умеет таить чувств, разумеется, только от того, кого любит…
— От того, кого любишь, нет средств скрыть чувства.
— Ах, нет, мужчины скрытны: они всегда хотят испытать прежде, любят ли их, хотят даже, чтоб явно оказали им предпочтение… а, скажите сами, возможно ли это?
— Кто любит истинно и имеет столько ума, чтоб беспристрастно ценить собственное достоинство, тому не нужно таиться.
— Вы так думаете? — и Любовь Аполлоновна вздохнула, пламенно посмотрела в глаза Лиманскому, который без сочувствия готов был рассуждать о любви и не подозревал в речах ее таинственного смысла.
— Женщины хотят, чтоб мы прежде прошли сквозь ад мучений и потом уже… — начал он; но разговор прервался толпой нахлынувших гостей, молодежи, на которую Любовь не обращала внимания и отвечала на вопросы всех сухо, с досадой.