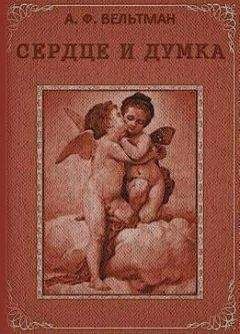— Во всяком случае, мне кажется, лучше всего согласитесь быть моей женою. В Киеве наденем венцы и будем обвинять судьбу, что так жестоко подшутила над нами… Но лошади уже запряжены, не угодно ли ехать?
Женщина, закрыв лицо платком, ничего не отвечала.
— Решайтесь на что-нибудь!
Она невольно повиновалась; не отнимая платка от лица, она встала.
— Утро довольно холодно, — сказал ее спутник, — не угодно ли опять надеть мою шинель?
— Не надо! — отвечала она.
— По крайней мере, не худо скрыть ваш маскарадный наряд другим, более приличным.
Не отвечая ни слова, женщина шла к крыльцу, подле которого стояла готовая уже коляска.
Бедная сорока молчала; от ужаса на ней встал хохолок дыбом, хвост распахнулся веером, все перья взъерошились.
Тут, расставаясь с бедной Мери, она вздохнула и полетела вниз по Днепру. Вдруг, откуда ни возьмись, стая сорок окружила ее, зачочокала по-своему: стой!
Наша сорока от них было — куда! — захлопали ее крыльями, заколотили, сбили с пути.
— Держи, бабы, держи! это какая-то не нашенская Эге! и хвост цел-целехонек! Да она еще не тронутая: на шабаше не была!
— Откуда ты, голубушка?
Бедная сорока молчала; от ужаса на ней вставал хохолок дыбом, хвост распахнулся веером, все перья взъерошились.
— Гони ее, бабы, в дупло! Не полетит — заклюем, изобьем в прах! На шабаше представим ее в судейскую, — за это нам по хохлу дадут… Гони ее!
Наша бедная сорока хочет от них вырваться, а сбоку, с другого — хлоп ее крылом. Она кинется к земле, а ей поддадут снизу; хочет приподняться повыше, а ее клюнут в голову. Повели ее к лесу. Пропала из глаз.
VIII
Вот настала ночь, страшная ночь, — в которую нечистая сила, по обычаю, сбирается на контракты, и на праздник на Лысую гору, — ночь на Иванов день.
Когда все улеглось в доме Романа Матвеевича, Зоя, надев ночной шлафор[94] и ночной чепчик, выслала вон горничную, открыла окно, села подле и стала всматриваться в луну. Луна незаметно спускалась с вершин небесных все ниже и ниже и, наконец, уставилась из-за лесу, как раскаленная лысая голова великана… Вдруг показалось Зое, что эта голова начала моргать, водить глазами… Зоя вздрогнула, закрыла лицо.
И в то же время что-то просвистело в трубе, шорох раздался подле Зои, она стиснула от ужаса глаза.
А перед ней стояла уже старуха в чепчике с крыльями и широкой бахромой.
— Ну, девушка! — пробормотала она, — чуть-чуть проклятые сороки не отбили у меня твоего сердечка!..
Старуха подошла к Зое.
— Не бось, голубушка! — продолжала она и начала водить около нее руками разные вавилоны, точно таким образом, как магнетизируют, для произведения пяти степеней таинственного сна.
— Хорошо ль, голубушка? по душе ль, сударыня?
По жилкам Зои стало переливаться какое-то наслаждение, голова ее скатилась на спинку кресел, она протянулась как замирающая.
— Нравится ли, милочка? по сердцу ли, лапонька?
Лети, сердце-пташечка,
В родимое гнездышко:
Выводи, пернатая,
Не серых воробышков,
Не рябых кукушечек,
Не орлов, не соколов,
А Сову Савельевну!..
В это время скок на окно сорока; затрещала, запрыгала, а старуха хвать ее за хвост…
Раз, два! — свернула ее в клубок… Раз, два! — в руках ничего, а в груди Зои вдруг что-то забилось сильно-сильно.
— Нравится ли, девушка? по душе ли, красная?
Вывела ли пташечка
Слепого дитенышка?
Вывела пернатая:
Шш! Сова Савельевна!
Старуха провела руками вавилоны над головой Зои и — в руках ее очутилась сова.
Тш! Сова Савельевна!
Лети-лети по миру,
Налетайся по свету,
Будь тебе, зловещая,
Во полудень темна ночь,
Во полуночь ясный день.
Где не место Совушке,
Будь там невидимкою…
Шш! Сова Савельевна!
Совушка похлопала глазами и порхнула из рук старухи на окно, с окна понеслась по густому мраку.
— Спи, моя сударыня! спи, моя сердечная!
Сердечушко в гнездышко,
А думка на волюшку;
Пусть себе потешится,
Вдоволь нагуляется,
На людей насмотрится!
Распелась старуха шепотом, подбоченилась, прошла ходуном по комнате да как хлопнет каблучком об пол… глядь… свернулась в клубок, в дымок, да в трубу.
IX
Еще во сне Зоя почувствовала какое-то беспокойство в груди; пробудившись, она с испугом приложила руки к сердцу — оно ужасно билось. «Что это значит?» — спросила она сама себя. Повернулась на бок — бьется; повернулась на другой — также бьется; привстала — все продолжает биться.
«Что это значит?» — повторила она и, накинув на себя утренний капот, торопливо сошла в комнату матери.
— Что это значит, маминька?
— Что такое? — спросила удивленная ранним ее приходом Наталья Ильинишна.
— Неужели это сердце бьется? попробуйте… — сказала Зоя, взяв руку матери и приложив к своему сердцу.
— Да, сердце, мой друг.
— Что ж это значит?
— Ничего особенного.
— Как ничего? у меня оно никогда так не билось!
— Ну… это значит… что ты уже невеста… Выйдешь замуж, этого не будет…
— Когда же свадьба?.. Если б скорей! вы не поверите, какое неприятное чувство.
— Какая же свадьба, когда еще жениха нет.
— А князь?
— Князь?.. Князь уехал, мой друг.
— Как уехал! — вскричала Зоя.
— Да: ему показалось, что ты не любишь его.
— Как не люблю!
— Да: ты, верно, холодна была к нему; ты сама виновата.
— Я холодна? я виновата? — и Зоя не могла удержать слез. — Чем же я виновата? — продолжала она, — скажите, чем же я виновата, если у меня не билось еще сердце?.. Вольно ему свататься за меня, когда я еще не была невестой!..
— Полно, полно плакать, Зоя! поцелуй меня… Бедная! неопытность ее наделала беды!.. Полно, Зоя, успокойся! не один жених на свете князь.
— О, боже мой, боже мой! — повторяла Зоя, рыдая, — что я буду теперь делать?
— Полно, друг мой, мы найдем другого жениха почище князя!
— Другого? Бог знает, будет ли у меня биться сердце для другого! О, боже мой, боже мой!
— Ты сама не знаешь, что говоришь! Стоит только полюбить мужчину — сердце будет биться для каждого.
— Ах, нет, нет! я буду любить только его одного: у меня верное сердце.
— Это глупость с твоей стороны, Зоя! Где его теперь искать? мы не станем унижаться, упрашивать, чтоб женился… Да он и сам не так привязан к тебе: уехал без объяснения!.. Не кланяться ему, чтоб любил!.. Велика беда!
— Я не изменю ему!
— Измена только при взаимной любви бывает; а если он тебя не любит — ты свободна отдать свое сердце кому захочешь.
— Кому ж я его отдам? Оно меня измучает, оно изобьет мне всю грудь — ах!.. ой!.. ой!.. ой!..
— Полно, голубчик мой!
— Кому я отдам его?
— Успокойся, душенька!.. Кто понравится тебе, тому и отдай… мы противиться не будем…
— Ой! — вскрикнула еще раз Зоя, уходя вся в слезах в свою комнату.
— Послушай, друг мой, — сказала Наталья Ильинишна мужу, — Зою надо скорее выдать замуж!
— Что так приспичило? — спросил Роман Матвеевич.
— Она совсем одурела; сердце у ней так и хочет выпрыгнуть, так и заливается слезами; а это уж явный признак.
— Да это такой признак, который целый век у женщин продолжается!
— У тебя всё шутки!
— А если не шутить, так лечить от биения сердца.
— Лечить! ты вздумаешь лечить жажду лекарствами; а это та же жажда, только жажда любви.
Роман Матвеевич стал в тупик от этого счастливого сравнения.
— Однако ж, — сказал он, подумав немного, — я читал в газетах, что Московские воды помогают от биения сердца; следовательно, они утоляют и жажду любви.
Наталья Ильинишна, в свою очередь, задумалась; но потом решительно сказала, что она этому не верит, что надо быть малодушным, чтоб этому верить, что для девушки в 18 лет одно только лекарство— муж и что огня любви не заливают пожарной трубой.
Роман Матвеевич не знал, что сказать против этого, и сказал только:
— Где ж мы возьмем мужа для Зои?
— Какое отчаяние! — отвечала Наталья Ильинишна, — объяви только, что у Зои сто тысяч приданого; выставь тарелку с медом, мухи налетят.
— Скажи пожалоста! мужчины на свете как мухи к вам льнут![95] А знаешь ли ты на это ответ: врете вы, шлюхи, мужчины не мухи!
Наталья Ильинишна плюнула и ушла.
— Ага! — сказал Роман Матвеевич торжественно.
X
В тот же день Полковник явился к Анне Тихоновне.
— Что нового, Анна Тихоновна? — спросил он, входя и поправляя на шее орден.
— Браво, господин Полковник! это, кажется, у вас новость? Честь имею поздравить!
— Да-с, вчера только получил.
— Поздравляю! Вот теперь жених в форме; всякая невеста прельстится.
— Года через два следует мне и генеральский чин.
— Браво!
— Да это все не радует меня, без…
— Без Зои Романовны?