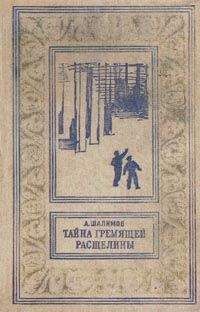– Что ж, бывает, – усмехнулся тот. – Тут уж, как говорится, ничего не попишешь. Вам она подходит, а вы ей нет, ситуация вполне жизненная. Платить будете? – Он вытащил из стола квитанционную книжку. – За повторную рекомендацию пять рублей.
– Как?! – выпучил глаза Филимон Орестович. – И вы еще имеете наглость мне предлагать?! Вы!… вы!… – Тут он изрек нечто столь нецензурное, что даже видавший всякое очкарик поперхнулся яблоком и долго еще после того, как за посетителем захлопнулась дверь, сокрушенно качал головой.
Тут наша легенда об электронном Фаусте подходит к концу. Тривиальному и грустному. Можно было бы написать еще много страниц о том, как Филимон Орестович боролся за свое счастье с домовладельцем из поселка Ручьи и как был счастлив, когда наконец насладился победой. Все произошло именно так. Однако пыл страстей, вовсе несвойственный его возрасту, окончательно подорвал здоровье престарелого молодожена, и результатом всей этой истории явилась скромная гипсовая раковина на одном из кладбищ – неопровержимое свидетельство того, что извечное противоречие между стремлениями человека и отпущенными ему возможностями окончательно улажено природой.
Возможно, что автором где-то был допущен просчет, когда он брался за эту тему.
Может быть, человечество еще не готово передать свои сердечные дела полупроводниковым схемам и запоминающим устройствам, или, наоборот, алгоритмы решения задач, связанных с удовлетворением высоких порывов души, еще недостаточно отработаны. А может, и впрямь браки заключаются в небесах? Право, не знаю.
автобиографический этюд для тех, кто интересуется личной жизнью автора
У меня противный скрипучий голос. Если его записать на магнитофоне, то больше всего он напоминает кваканье лягушки. Когда я пытаюсь придать ему хоть какую-то выразительность, меняется только тональность. Я могу охватить весь диапазон – от звуков, какие издает стекло, когда его царапают железом, до выхлопа дизельного автобуса, но выразительности от этого не прибавляется.
Собственная внешность приводит меня в уныние. Когда-то, в молодости, привлекательные и отталкивающие черты моего лица были тщательно сбалансированы природой, как характеры в реалистическом романе. Потом время начало вносить коррективы. Сейчас от Тургеневской объективности не осталось и следа. Я бы сказал, что здесь больше чувствуется Кафка.
Вероятно, поэтому я часто веду телевизионные передачи. Я понимаю редакторов, которые поручают мне это дело. Зрителям приелись отлично поставленные голоса упитанных красавцев дикторов. Им хочется разнообразия.
Кроме того, я писатель, а это тоже чего-нибудь да стоит. Говорят, что у меня даже есть литературные поклонники. Я этого не чувствую. От официальных встреч с читателями по возможности уклоняюсь, а писем мне не пишут. Вернее, почти не пишут. Я написал четыре книги и получил четыре письма. В одном из них мне ставилось на вид незнание элементарных основ шахматной теории, в другом – какой-то школьник просил прислать схему, по которой был собран Роби, в третьем – читатель из деревни интересовался перечнем книг, которые стоит прочесть. В четвертом, из Таллина, было несколько теплых строк на крохотном клочке бумаги. К сожалению, я его потерял.
Вот и все, если не считать, что однажды на улице меня остановила читательница и довела до моего сведения, что кенотрон, который светится голубоватым светом, нужно немедленно выбросить. Это насчет рассказа «Дневник». Я обещал ей в следующем издании заменить кенотрон газотроном.
Тридцать семь лет я провел среди грохота и вони моторов. Поэтому сейчас больше всего ценю тишину и покой. Мною никто не командует, и я никем не командую, потому что я пенсионер. Иногда я месяцами не выхожу на улицу – так мне хорошо дома. Делаю я только то, что хочу. Хочу – пишу, хочу – нет. (Большей частью – нет.) Хочу – читаю, хочу – не читаю. (Большей частью не хочу.) Хочу – сплю. Никто мне не мешает.
Иногда приходят гости. Стараюсь, чтобы им было не больше сорока лет (про инфаркты я могу рассказывать сам). Мы пьем водку и разговариваем. Порою и мне удается вставить слово.
Время от времени встречаемся с моими школьными друзьями. Говорим о внуках и обсуждаем разницу между гнилостным и бродильным колитом. Обычно такие вечера проходят очень оживленно.
Таким образом, мое общение с внешним миром осуществляется в основном через телевидение, на приеме или на передаче. Лучше, конечно, на передаче. Дело не в телезрителях. Для меня их не существует. Это какая-то абстракция, загнанная в объектив телекамеры. Просто мне очень нравится ходить в редакцию молодежных передач. Там много приветливых девушек, удобные кресла, в которых можно подремать под стрекот машинок и шум телефонных разговоров. Но больше всего меня привлекает густой табачный дым и какая-то особая атмосфера, свойственная только телевизионным студиям и полевым штабам. Скрытой камерой там можно было бы отснять отличные кадры для фильма об эвакуации Дюнкерка.
В редакции никто ничему не удивляется. Если бы завтра мне вздумалось притащить туда бегемота, никакой сенсации это не вызвало бы. Разве что кто-нибудь из девушек на бегу сунул бы ему в пасть недожеванный бутерброд.
Моя работа на студии носит эпизодический характер. Это всегда неожиданность, вроде любви с первого взгляда или насморка. Предусмотреть заранее и спланировать невозможно.
Начинается обычно с того, что мне звонит редактор и справляется о моем самочувствии. Выясняется, что чувствую я себя сносно. Определенных планов на будущее у меня тоже нет. Дальше идет обмен любезностями и поклонами. «Кстати, – говорит он уже в самом конце, – вероятно, двадцатого вы нам понадобитесь».
Мне хочется узнать зачем, но задавать такие вопросы бестактно да и бесполезно. В лучшем случае он скажет, что «есть одна задумка».
Ну что ж, задумка так задумка. Делаю пометку на календаре и возвращаюсь к своим делам.
Восемнадцатого он мне звонит снова и напоминает, что завтра утром я должен быть в студии. К тому времени мое сносное самочувствие уже в прошлом. Я лежу на диване, охаю, ставлю горчичники и глотаю анальгин. К тому же качается мост. Это не метафора. Я имею в виду мост, который у меня во рту. Контрольный нажим языком на коронку – и она мягко соскальзывает с места, увлекая за собой все остальное.
В таком виде вести передачу нельзя. Вызываю такси и еду к врачу. Выплевываю ей в руку искореженный металл и объясняю, что у меня завтра передача. Она, как телезритель, полностью понимает трагичность ситуации. Выдирает еще две коронки, посылает меня на рентген. Снимки мне делают вне очереди. Врач полна энтузиазма. Она готова приступить к делу немедленно. Вот эти четыре зуба нужно удалить и сделать все заново. Обычно такая работа занимает около месяца, но тут особый случай, и она думает, что недели за две…
Меня прошибает пот. Я снова объясняю, что передача завтра и что моя и без того убогая дикция отнюдь не выиграет от отсутствия еще четырех зубов. Она пытается меня утешить. Говорит, что некоторые шипящие согласные я смогу произносить и без этих зубов, что же касается косметической стороны дела, то нужно стараться держать рот закрытым.
Ни шипящие, ни закрытый рот для телевидения не подходят. Я забываю о мужском достоинстве и начинаю канючить, как дошкольник, который просит игрушку.
В конце концов она сдается и ставит на место коронки при помощи клея. Мои благодарности она принимает сухо. Задета ее профессиональная честь. Что же касается обещания сразу же после передачи прийти и сделать все, что нужно, то и это ее не смягчает. «Придете тогда, когда начнете разваливаться».
Я знаю, что это будет перед следующей передачей.
У меня дурацкая привычка приезжать точно в назначенное время. В одиннадцать утра я уже в студии. Выясняется, что остальные участники передачи соберутся часа через два.
Чтобы я не скучал, мне дают ознакомиться со сценарием. Там написано все, даже то, что я должен говорить, но это – так называемая «рыба». И составитель сценария, и тот, кто его утверждал, знают, что говорить этого я не буду. Единственное, что можно извлечь из такого документа, – тема передачи.
Проходит три часа. Кроме меня, никто из приглашенных не явился. Можно ехать домой.
Назавтра я снова приезжаю вовремя. Жду около часа. Наконец начинается большой сбор.
Самое трудное – не перепутать участников передачи. Пишу шпаргалки. Научное звание, должность, фамилия, имя и отчество.
Предстоит научная дискуссия. Поэтому средний возраст собравшихся около семидесяти лет. В такие годы люди очень обидчивы. Не дай бог представить зрителям кого-нибудь не так.
Начинается тракт. Нас рассаживают в студии, чтобы операторы могли пристреляться. Каждому объясняют его роль.