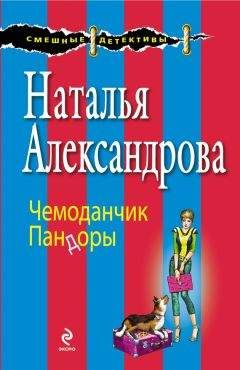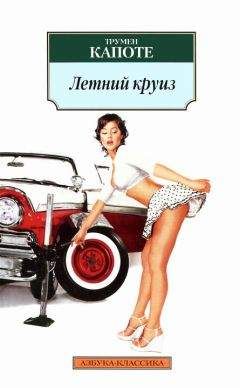— А у нас дела плохи, — сказал белобрысый, обращаясь к штурвальному. — Наш аэроплан сгорел! Да-да, у нас был отличный аэроплан, с двумя моторами и с маленьким бассейном на крыше. Мы прекрасно долетели на нем от самой Такма-Но-Хары вот до этого лужочка. А тут он — бац! и сгорел. Печально, не правда ли?
— Печально, — согласился штурвальный.
— А что вы делали... вот в этой... стране? — поинтересовалась Аделаида Ивановна.
— В Такма-Но-Харе?.. Мы были на гастролях, — ответил белобрысый, не задумываясь. — Ах, я же вам не представился... Артист цирка Тимофей Воротынский. Вы, конечно, не слышали... Я маленький артист, незначительный эквилибристишка. Но зато Гедеон, — он показал на бугая, который так и стоял, подбоченившись, на кромке асфальта, даже ни разу не взглянув на автомобиль, — Гедеон Несветаев — это фигура! Это величайший, величайший (настырный элатив прозвучал в устах белобрысого трижды, и как раз белобрысый зачем-то подмигивал Уриилу), величайший дрессировщик медведей!
— Ура, — сказал штурвальный. — Я рад, Тимофей. Но мы, понимаешь ли, очень торопимся.
— К морю?
— Да, к морю.
— Я вам завидую. Если б вы знали, как мы с Гедеоном мечтали о море! Мы мчались, летели, но наш аэроплан... Мы погибнем здесь, нас никто не берет! А мы страшно, страшно устали, нам нужен отдых, мы так много работали в Такма-Но-Харе, бедный Гедеон падал прямо на арене, и медведи уносили его за кулисы... Не бросайте же нас! Хотите, мы вам заплатим? У нас много денег, вот! вот! — Белобрысый вытащил из внутреннего кармана пиджака запечатанную пачку и, разломив ее, раскрыл веером денежные знаки. Они были, по всей видимости, иностранные, с вычурными виньетками по уголкам, с какими-то неуместными изображениями клоунских колпачков, гармошек и дамских туфелек вперемешку с черными, траурно поникшими розами и сосновыми венками, в одном из которых красовался портрет упитанной, самодовольно улыбающейся королевы; ангелу она показалась похожей на водительницу голубого пикапа, правда, во лбу ее не было золоченого рога. — Это такманохарские деньги, — пояснил эквилибрист. — В Такма-Но-Харе вы можете купить на них целую гору вместе с ледниками и водопадами...
— И вот таких пуговиц? — спросил Уриил.
— Миллион таких пуговиц — на одну бумажку, — ответил эквилибрист уверенно.
— Деньги нам не нужны, — усмехнулся штурвальный. — Что будем делать, Ада?
— Решайте сами, Демиург Александрович... Посмотрите, сколько у них багажа, куда мы его денем?
— Если только на крышу, — осторожно предположил штурвальный.
— На крышу! На крышу! — подхватил белобрысый. — Гедеон, скорее сюда! Эти сердечные люди повезут нас на море!
Дрессировщик медведей неохотно сдвинулся с места. Он подошел к автомобилю и, сняв шляпу, молча поклонился — сначала штурвальному и Уриилу, а потом, с кряхтением встав на одно колено, Аделаиде Ивановне. Он хотел было поклониться и дворничихе, но она стояла на подножке до того неподвижно, одетая в латы и в забранный шлем с плюмажем, что он, приняв ее за какое-то особое украшение автомобиля, кланяться передумал, а только потрогал с любопытством красное древко ее алебарды и произнес артистическим басом:
— Недурно.
Эквилибрист тем временем, установив рядом с автомобилем стремянку, уже перетаскивал чемоданы. Он бойко командовал Уриилом, вызвавшимся ему помогать («Нет, сначала вот этот портфельчик, дружок, улыбайся!»), ловко взбегал по стремянке на крышу, разматывал веревки и между делом, развлекая Уриила своим искусством, перепрыгивал с крыши на кончик антенны и вращался на нем, как флюгер, посылая из обеих ладоней воздушные поцелуи (даже Аделаида Ивановна, оценив этот номер, невольно воскликнула «браво!» и в награду артисту бросила ему из окошка свой веер).
— Не желаете ли партию в бильярд, пока Тимоша грузится? — предложил дрессировщик медведей, подступив к водительской дверце с учтивым полупоклоном.
— В пирамидку?
— Это уж как вам угодно, — ответил дрессировщик и, опередив штурвального, сам открыл дверцу, расчистив сапогом асфальт от мелких камешков.
Погрузка шла полным ходом. Курган из чемоданов постепенно таял, перемещаясь на крышу вишневого автомобиля. Шары энергично и с удовольствием катались по зеленому сукну, звучно ударяясь друг о друга и затихая лишь на мгновение, чтоб выслушать лаконичные команды игроков:
— Четвертый в середину.
— Девятый — от борта в угол.
— Ан, не попал, любезный, а мы его подправим... Вас как величать?
— Демиург Александрович.
— А меня...
— Я уже знаю — Гедеон Несветаев... Трисмегист — трижды величайший.
— Так точно-с... Пятый в середину. Двенадцатый в угол.
Через час на обочине остался только бильярдный стол и два небольших саквояжа; подхватив их, эквилибрист добежал до багажника, поставив один саквояж на асфальт, другой повесил на указательный палец дворничихи, выставленный вперед в железной перчатке, и поднял крышку.
— А это что за Посейдон?! — воскликнул он, отшатнувшись назад.
Кавалер ордена Золотого Руна, во фраке с оторванным рукавом, в засохшем венке из колосьев, с одной бровью на лбу, сидел верхом на мягком овальном стуле и аккуратно поливал из графина астры, росшие в длинной пластмассовой жардиньерке на металлических ножках.
— Не паясничай, Тимоша, — сказал он, плеснув из графина на крылышки желтой бабочки, залетевшей в багажник и уже хлопотавшей вокруг цветка. — Ты почему убежал с моего пигашика? Жалкий канатоходишка, шут! Тебе разонравилось скакать по золотой цепочке? Где твои бубенцы, где дудочка? А? Говори?
— Да он еще сумасшедший, — вымолвил белобрысый, неуверенно улыбнувшись.
— Нет, Тимоша, не сумасшедший. А вот ты, наверное, спятил, если не боишься дерзить кавалеру... Ты поедешь со мной, в багажнике, а своего медведя — где ты его взял? — посадишь в кабину. Иди поторопи Демиурга Александровича, скажи ему, что море нас ждет, сверкая лазурью и пенясь, как... как черт его знает что... Как юная дева!..
На перевал вишневый автомобиль, обремененный багажом циркачей, взъезжал тяжело. Чемоданы и сумки, выползая из-под веревок, то и дело падали с крыши. На одном из поворотов с подножки свалилась дворничиха и, громыхая латами, покатилась по дороге; дрессировщик медведей, выскочив из автомобиля, успел ее выдернуть из-под колес грузовика. Он водрузил ее на место (протер рукавом запылившийся панцирь и любовно поправил плюмаж на шлеме). Бильярдный стол — его ставили то на крышу, поверх чемоданов, то на капот, пока штурвальный не догадался приделать к ножкам колесики — пришлось прицепить на буксир. В кабине было невыносимо жарко; дрессировщик медведей вспотел так, что у него размокла и расползлась на голове картонная шляпа; у Аделаиды Ивановны беспрестанно отклеивались на лице бумажные мушки в форме двух картонных мастей (если ты помнишь, ангел, бубны и трефы); усы штурвального покрылись мутным тяжелым бисером и выглядели так, как будто их припорошило снегом; жар от мотора поднимался горячими волнами из-под ног, и два маленьких вентилятора тщетно сражались с раскаленным воздухом, в то время как в багажнике у кавалера было прохладно... Хрустальная люстра, тихонько позвякивая ребристыми сосульками, сияла под сводчатым потолком. Фонтанчик возле трюмо выплескивал подкрашенные лампами синие струйки; два медлительных лебедя плавали вокруг него, поочередно вытягивая черные лоснящиеся шеи и раскрывая красные клювики (их назойливый глянец и опрометчивые заусенцы в ноздрях изобличали пластмассу). Кавалер был одет по-домашнему: в зеленый стеганый халатик и в белый колпачок с фиолетовой кисточкой. Эквилибриста он снабдил точно таким же колпачком и даже угостил его толстой, в цвет обезьяньей кожи, сигарой. Они сидели за круглым лакированным столиком и бросали кости. Саквояжи эквилибриста, набитые пачками такманохарских денег, стояли на камине и, судя по тому, что эквилибрист отрезал от пиджака янтарные пуговицы и выставлял их на кон — одну против одной такманохарской купюры с цифрой «100» (единичку в которой изображал подчеркнуто элегантный, без всяких излишеств, гроб, вертикально поставленный на изголовье), они уже были выиграны кавалером.
— Осталась последняя, Тимоша, — ласково сказал кавалер. — Будешь отрезать?
— Буду, буду! Улыбайтесь, господин кавалер! Я хочу отыграться.
— Я улыбнусь, я с удовольствием улыбнусь, Тимоша, когда ты проиграешь мне и эту пуговицу... Что там у нас? богомол? таракан? или певчий кузнечик? А?
— Маврский клоп в обнимку с цикадой!.. Зачем вам эти деньги, Арнольд Владиславович? Вы никогда не попадете в Святую Такма-Но-Хару.
— Да, не попаду, — согласился кавалер. — Мне нравится жить з д е с ь, Тимоша. Я очень люблю травку, цветочки, насекомых и солнышко. И небеса, — добавил он поразмыслив. — Они бывают несказанно красивыми. А что до твоих удмубов (так, по-видимому, назывались такманохарские деньги), то они ведь фальшивые, а? Признайся. Ты их сам нарисовал, подлец. А твой медведь тебе помогал. Воображаю, как вы сидели где-нибудь на лужочке и, хихикая, чертили эти мрачные гробики и... что тут у вас еще? гармошки? хе-хе. Глупцы! На удмубах изображают погашенные факела, слезы и черные лилии. И там, в Такма-Но-Харе, на них ничего не купишь, кроме ангельских крылышек. А здесь, — кавалер постучал ноготком по портрету королевы, которая, улыбаясь счастливым и толстым лицом, смотрела со стоудмубовой бумажки, — здесь Мнемозина берет только одной монетой — настоящим мгновением... и в сущности, вечностью. Вечностью, Тимоша, за какое-нибудь чудесненькое воспоминаньице! — Кавалер достал из шкатулки сигарету, медленно протянул ее под носом и, не закуривая, положил в пепельницу. — Кстати, Тимоша, ты помнишь, как выглядел герцог Бургундии Филипп Добрый?.. Я вот не помню, забыл. Демиург Александрович интересовался, был ли он толст или худ и какого цвета у него были глаза. А я не помню. Я позабыл даже, как выглядел мой папочка — граф Анжуйский. Говорят, будто он был уродцем: ростом в четыре локтя, с огромными ступнями и с отвисшей губою... боже, какая мерзость, не правда ли?