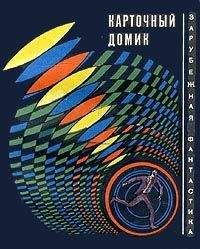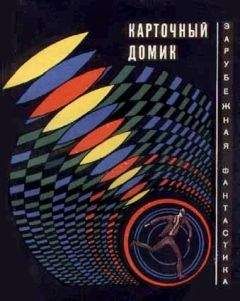До сих пор я смотрел на всю эту заваруху как бы со стороны, как на нечто, касающееся иного мира, к которому я не принадлежу. Но вот повестка призвала меня в учебный лагерь. Этот мир с его множеством смертей и увечий где-то за кадром меня попросту не интересовал. Я был нездешний. Испытывать на себе тяготы солдатской жизни, подвергаться риску ужасной смерти, и все это ни за что ни про что! Из-за дурацкого нагромождения бессмысленных слов.
Доведенный до белого каления, я провел бессонную ночь. Утром из зеркала на меня глянула исступленная, осунувшаяся физиономия — эдакая карикатура. Но в душе я восстал. Не собирался нести воинскую повинность. Если слова "принципиально уклоняющийся"[2] хоть что-то да значат, то они сказаны про меня. Даже если меня расстреляют на месте за государственную измену, это все же лучше, чем выйти на поле боя и отдать все силы и саму жизнь за… да ни за что!
Мои опасения подтвердились полностью. Несмотря на то что в душе у меня все клокотало, я с присущим мне самообладанием явился на мобилизационный пункт и уведомил присутствующих, что не верю в правоту их дела и не считаю нужным за него сражаться. Очевидно, там уже подозревали нечто подобное, так как наручники на мне защелкнулись прежде, чем я закончил речь. — Чрезвычайное положение, — сказал какой-то мускулистый тиран из-за письменного стола. — Не время разводить антимонии в суде. Вас ждет военный трибунал!
Он проговорил это мстительным тоном, и охранники грубо поволокли меня по коридору; даже их возмутила моя позиция. Военный трибунал уже собрался. С тех пор как я ушел с лекции в церкви, меня держали под тайным надзором и потому отлично знали о моих настроениях. Это было первое, что сообщил мне председатель трибунала.
Суд вершился недолго. Мне сказали, что у меня нет веских причин уклоняться от военной службы. Уклонение по религиозным, национальным и тому подобным мотивам все бы поняли; за него обычно сажают в тюрьму вплоть до окончания войны. Но я признал, что ничего не имею против войн как таковых; значит, я просто издеваюсь над священным и правым делом. Это тягчайшее государственное преступление.
— Расстрелять на заре! — объявил председатель трибунала.
Все окружающее поплыло у меня перед глазами, но только на секунду. Выручило самообладание. С удивительной самоотрешенностью, которая приходит к нам в чрезвычайных обстоятельствах, я заметил, что трибунал заседает в кабинете профессора Вайбенса — закопченной комнате викторианской эпохи, там, где я впервые рассказывал повесть о своем путешествии и впервые понял, что попал в t-осный мир. По всей видимости, она же была и последней комнатой, которую мне предстояло увидеть в этом мире. Я не питал ложных надежд на то, что казнь вернет меня в родной мир, как это случается иногда в художественной литературе. Уж если отняли жизнь, то ее отняли, на какой бы оси это ни произошло. В t-измерении я буду мертв точно так же, как и в z-измерении.
"Ну, Эйнштейн, теперь или никогда! — подумал я. — Придите ко мне на помощь, о Риман, о Лобачевский! Если что-нибудь меня и спасет, то либо тензор, либо геодезическая".
Думал я об этом с иронией. Меня завела сюда относительность. Может ли она вывести меня отсюда?
А что ж! Почему бы и нет?
Если характер законов природы, если физическое тело изменяется вместе с описывающим его наблюдателем, то, может быть, истинность и смысл лозунга о куздре тоже проверяется теорией относительности? Это все равно что еще раз заставить луну скользить вдоль верхушек деревьев. Будь я более способным сторонником этой теории и поставь себя на место этих людей, — возможно, я бы и осмыслил куздру. Возможно, даже охотно сражался бы за нее.
Тут меня осенило. Наверное, я даже поднял голову и лицо у меня прояснилось; во всяком случае, мои конвоиры посмотрели на меня как-то странно, и хватка их стала еще цепче. Мы как раз спустились по парадным ступеням и зашагали по аллее.
Заставить луну плыть между верхушками деревьев! Вот что я должен сделать. Но это звучало так же глупо, как и куздра. А куздра казалась теперь не такой уж глупостью. Я вздохнул поглубже, и это меня приободрило. Мне удалось снова встать на точку зрения относительности. Нужда многому научит. Я понял, как люди могут сражаться за куздру, будланувшую бокра. Мне даже захотелось излить душу этим людям. Удивительная штука — относительность. Меня вели вверх по склону холма, между двумя шеренгами тополей.
Вдруг у меня в голове все прояснилось: ведь я попал сюда оттого, что изменил систему координат, внушил себе, будто иду вверх. Точно так же мы останавливаем луну или, когда ночью едем в машине, заставляем убегать назад деревья. Теперь я шел вверх. В моем мире, в t-измерении, та же аллея идет вниз по склону.
"Она внизу!" — убеждал я себя. С закрытыми глазами я внушал себе, что здание позади меня и вверху. С закрытыми глазами мне казалось, будто так оно и есть. Я долго шел вслепую. Потом открыл глаза и стал озираться.
Я стоял в конце тополевой аллеи. Меня это удивило. Аллея казалась короткой. Во всяком случае, она как-то укоротилась; я не ожидал, что так быстро дойду до конца. А где же конвоиры в оливковой форме? Возле меня никого не осталось.
Я обернулся назад. За моей спиной вздымался склон холма. Я и вправду шел вниз. Охранников в поле зрения не было, а на вершине холма виднелось светлое новое здание.
На ступеньках его стоял Волишенский.
— А теперь что вы думаете о t-измерении? — обратился он ко мне.
Волишенский!
И новое, современное здание! Кабинет Вайбенса находился в старом здании викторианской постройки. Что общего между Вайбенсом и Волишенским? Я набрал побольше воздуху в легкие. На меня нахлынуло блаженное чувство — я вернулся в родной мир. Куздра и война остались где-то там. А тут — мир и Волишенский.
Захлебываясь, я стал излагать свои впечатления.
— Что все это значит? — спросил я, когда выговорился до конца. — У меня смутное подозрение, что тут, должно быть, кроется какой-то смысл.
— Быть может, на самом деле мы живем в четырех измерениях, — ответил он, как всегда, рассудительно и ласково. — Частица нас и нашего мира — частица, которую нельзя ни увидеть, ни ощутить, — проецируется в другое измерение, как в книжном шкафу — обрезы книг, скрытые от нашего взора. Вам известно, что сечение конуса плоскостью у непохоже на сечение того же конуса плоскостью t? Возможно, вы видели наш собственный мир и нас самих в сечении другой системы координат. Относительность, как я и утверждал с самого начала.
Стивен Арр (Стивен Райнес)
По инстанциям
— Джордж! — сказала Клара, с трудом сдерживая гнев. — Во всяком случае ты можешь попросить его. В конце концов ты мышь или слизняк?
— Но ведь я каждую ночь ее отодвигаю, — возразил Джордж, тщетно пытаясь урезонить жену.
— Да, конечно! А он каждое утро придвигает ее обратно. Джордж, я с ума сойду — а вдруг что-нибудь случится с детьми! Иди сейчас же и втолкуй ему, что он должен немедленно ее убрать.
— Стоит ли? — расстроенно спросил Джордж. — Вдруг им будет неприятно узнать про нас!
— Ну, они сами виноваты, что мы тут, — сердито сказала Клара. — Ведь они совершенно сознательно подвергли твоего прапрапрадеда Майкла воздействию жесткого облучения.
Джордж расстроенно посмотрел на нее, не зная, что делать.
Они прожили здесь так долго, что успели перенять человеческие обычаи и язык, они даже взяли себе человеческие имена.
— Джордж! — умоляюще сказала Клара. — Ты только попроси его. Уговори. Растолкуй ему, что он напрасно тратит свое время…
Едва Джордж услышал шорох швабры за стеной, он встал и вышел через парадный ход. Ловушка еще стояла в стороне — там, куда он ее отодвинул ночью.
— Здравствуйте! — крикнул он.
Уборщик перестал мести и с недоумением посмотрел по сторонам.
— Здравствуйте! — взвизгнул Джордж, чувствуя, что сорвал голос.
Уборщик посмотрел вниз и увидел мышь.
— Здравствуй, — сказал он.
Уборщик был человек необразованный и, увидев мышь, которая кричала: "Здравствуйте!" — так и подумал, что перед ним — мышь, которая кричит: "Здравствуйте!"
— Ловушка! — надрывалась мышь.
— Ну, ловушка, а что? — спросил старик.
— Моя жена не хочет, чтобы вы ставили ее у нашего парадного, — объяснил Джордж. — Она боится, что дети могут попасть в нее.
— Извиняюсь, — ответил уборщик. — Но мне приказано ставить мышеловки у всех нор. Тут атомный центр, и мыши тут не требуются.
— Нет, требуются! — заспорил Джордж. — Они сами привезли сюда моего прапрапрадедушку Майкла и подвергли его действию жесткого облучения. А то откуда бы я тут взялся?
— Мое дело маленькое, — огрызнулся уборщик. — Сказано ставить, и я ставлю.
— Ну, а что я скажу жене? — закричал Джордж.