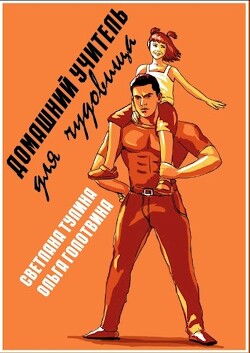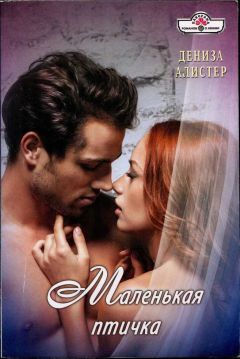Каждое дерево в отдельности — шедевр садоводческого мастерства и гордость садовника-бостанджи, их кроны формируют лишь мастера, косоруких помощников из младших янычар до такого не допускают, используют лишь на работах простых и грубых: вскопать, прополоть, обрезать засохшие ветки, убрать опавшие листья. На деревьях в Дар-ас-Саадет нет ни единой некрасиво торчащей веточки или грубо нарушающего общую гармоничность сучка — все кажущиеся нарушения продуманы и преднамеренны, они только усиливают общее ощущение правильности и целесообразности. Так древние эллины специально искривляли мраморные ступени и колонны своих дворцов, чтобы те на взгляд стороннего наблюдателя казались идеально ровными. Только у них в руках был мертвый камень — тут же живое зеленое кружево, сплетенное умением истинного мастера в изящный живой лабиринт и превратившее часть аллеек в тенистые зеленые туннели, влекущие утомленных постоянной толкотней обитательниц Дома Счастья желанным уединением и отгороженностью от человеческой суеты.
Крохотные беседки, заплетенные виноградом, так и зовут присесть на скамьи из тяжелого каменного дерева или не менее тяжелого мрамора, отполированные как руками искусных рабов, так и не одним десятком седалищ здешних обитательниц, пользовавшихся их гостеприимством. Журчащие фонтанчики и искусственные ручейки, беспечные птички, перепархивающие с ветки на ветку, пестрые бабочки и деловитые пчелы, перелетающие с одного цветка на другой. Яркое утреннее солнце разбивается брызгами на текучей воде, дробится в стеклах цветных витражей дворцовых павильонов и в самоцветах, украшающих одежды знатных сановников, острыми высверками режет глаза — и, раненое навылет, стекает на желтый песок по бритвенно-острым лезвиям обнаженных сабель привратников…
— Не задирай голову, Хадидже. Сегодня яркое солнце. Ты же не хочешь, чтобы у тебя нос покраснел?
— Нет, госпожа.
— Не называй меня госпожой, когда мы одни, мы же договорились.
— Как скажете, госпожа.
Все знают, что Кёсем не любит гулять одна даже по прекрасным тенистым аллеям Дар-ас-Саадет.
Раньше компанию ей составляли Хадидже-Махфируз и Башар, подруги детства, и было им позволено рядом с султаншей столь многое, что положению их люто завидовали прочие обитательницы Дома Счастья. Махфируз, правда, в скором времени заболела и почти сразу перестала появляться в саду, однако оставалась Башар — оставалась, даже когда вышла замуж и уехала жить в клан оперенных, о да, тех самых. про которых так красноречиво умеют молчать во дворце даже камни. однако она все равно часто посещала женскую половину дворца, ведь у ее мужа вечно были какие-то очень важные государственные дела с правителями Блистательной Порты. Сначала с Мустафой, а потом и с Османом. И муж этот, очевидно, очень любил свою жену и детей, ибо никогда не мог отказать им в просьбе взять с собою и их, чтобы подруги могли вдосталь наговориться о своем, о женском, пока мужчины решают свои очень важные государственные дела.
Но последнее время муж Башар редко приезжает в столицу. А если и приезжает — то один: тревожные времена, жен и детей лучше оставить дома. Под надежной охраной надежных друзей и родичей и не менее надежных собак. А Хадидже-Махфируз умерла. Но Кёсем не была бы Кёсем, если бы не нашла себе новую Хадидже.
Даже двух.
— Я кому сказала, Хадидже? Лицо обгорит, потемнеет, потеряет привлекательность перед глазами султана.
Женщины перебрасываются коротким взглядом, куда более красноречивым, чем любая речь, даже самая длинная и прочувствованная. И та, что ниже на полголовы и моложе на целую жизнь, послушно опускает голову.
— Хорошо, госпожа.
Со стороны Кёсем фраза о привлекательности перед глазами султана могла бы быть издевкой — всем ведь известно, что эта Хадидже ее уже потеряла. Пусть пока еще ее не отправили в Обитель Отвергнутых, но и былого статуса любимой фаворитки у нее больше нет, султан Осман уже много ночей пренебрегает ее ласками, предпочитая вызывать на ложе Мейлишах. Говорят, ему даже нравится растущий живот новой фаворитки и будущей хасеки, потому что в нем зреет сын не Османа-шахзаде, а Османа-султана, его настоящий первенец.
Так что фраза Кёсем могла бы быть издевкой, да, не очень умный соглядатай так бы наверняка и подумал. Не слишком умный соглядатай никогда бы не обратил внимания на тон, каковым фраза была произнесена. И не вспомнил бы, что нет ничего более переменчивого в подлунном мире, чем ветер у моря и султанское расположение.
Впрочем, вряд ли в Дар-ас-Саадет нашелся бы настолько неумный соглядатай — настолько неумные тут просто не выживают.
— И не называй меня госпожой, сколько раз повторять!
— Хорошо, госпожа, как скажете, госпожа!
С легким серебристым смехом Хадидже кружится по садовой дорожке, словно танцует. Она отлично поняла, что хотела сказать Кёсем ей одной — и что хотела она, чтобы поняли другие. И мгновенно подхватила игру, словно всю жизнь вот так вдвоем танцевали они на канате судьбы — звонкий счастливый смех, беззаботная улыбка, руки раскинуты, широкие рукава халата плещутся крыльями, алые мягкие туфельки рисуют замысловатый узор по золотому песку дорожки. Любой соглядатай сразу поймет, как обрадовали ее слова Кёсем, и утвердится в собственной прозорливости, и порадуется, что такой умный, вот ведь мог подумать, что Кёсем просто издевается, а не подумал так, ибо сразу же понял потаенный смысл ее речи. Издалека поймет и издалека же утвердится — и другим передаст, что рано сбрасывать со струн абака костяшку под именем Хадидже. Ох, рано!
Но вряд ли даже самый прозорливый и подозрительный соглядатай сумеет подойти настолько близко, чтобы заглянуть танцующей и смеющейся Хадидже в глаза. И хорошо, что не сумеет.
Целее будет.
А глаза Хадидже, кстати, опять смотрят в небо…
— Ну вот опять. И на что ты там уставилась?
Ну наконец-то!!!
Если бы соглядатай оказался не просто до чрезвычайности прозорливым, но истинным саглядатайчи, мастером и гением своего ремесла, и если бы сумел он подобраться близко-близко — он бы, возможно, увидел, с каким облегчением в этот раз опустила голову Хадидже, у которой от постоянного ее запрокидывания и вынужденного глядения вверх уже начала затекать шея. А что было делать, если эта недогадливая султанша столько времени все никак не могла задать правильный вопрос?!
— На птичек, госпожа.
Это только кажется, что в прекрасных садах Дар-ас-Саадет можно уединиться и остаться незамеченным. Или поговорить о чем-то секретном — и чтобы об этом сразу же не узнали все вплоть до самой последней служанки. Впрочем, служанка, может, и не узнает — зачем ей? Ей от такого знания ни жарко, ни холодно. А вот тот, кому бы и не надо, узнает точно.
Сотни глаз следят за каждым, гуляющим по тенистым лабиринтам восхитительных садов Дома Счастья, сотни ушей прислушиваются к ведущимся в их тени разговорам. Вот и прекрасно. Вот и пусть слушают счастливый смех и глупую болтовню глупых женщин. В самом деле — ну кто кроме глупых женщин будет болтать о птичках?!
— На птичек?
От неожиданности Кёсем даже приостанавливается и сама поднимает голову. В утреннем небе, выжженном солнцем до ослепительной белизны, действительно видна темная черточка парящей птицы; то ли жаворонок, то ли сокол, на таком расстоянии не разобрать. Кёсем отводит взгляд — не отводит даже, отдергивает скорее. И натыкается на встречный взгляд Хадидже. И ей даже кажется, что она видит искры и слышит звон стали о сталь, словно столкнулись два клинка. Смешок застревает в горле.
— Да, госпожа! На птичек! Они так прекрасны! Они так крылаты! У них таое красивое … оперение.
Хадидже кружится и смеется, ее рукава-крылья плетут узор, отвлекая и увлекая. И нужно подхватывать танец, хотя бы словами, хотя бы выражением лица.
— Вот как? Тебе надоело быть Хадидже? Ты хочешь снова стать птичкой? Маленькой Птичкой? Кюджюкбиркус?
Тон в меру ироничен, улыбка легка, если не сказать легкомысленна. Танец подхвачен. И даже самое тренированное соглядатайское ухо вряд ли услышит в ответном смехе Хадидже скрытое облегчение.