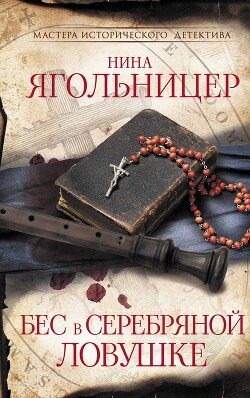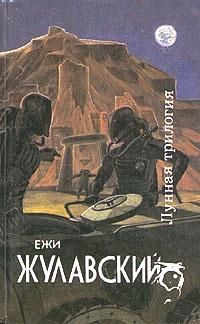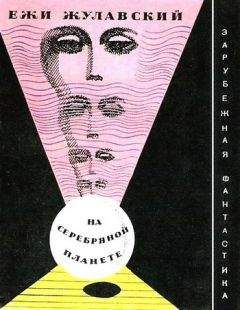Годелот оттолкнулся от стены, выставляя руки вперед, двинулся в непроглядную черную бесконечность – и тут же нащупал ледяные прутья решетки. Проведя по ним ладонями, он медленно поднес пальцы к лицу и ощутил неприятный запах ржавчины. Надо же, он и не заметил, что решетки ржавые…
С этой мыслью кирасир скользнул ладонью по своему колету, обнаруживая, что одна из пуговиц еле держится, а слева сукно на ощупь чуть глаже, чем справа, – видимо, одного отреза ткани не хватило. Шагнув назад, Годелот снова вытянул руку и тут же споткнулся, ссадив локоть о камень.
Неизвестно, сколько времени провел шотландец в непроглядной тьме своего узилища, ощупывая стены, вслушиваясь в скупые звуки. Наконец, уставший и задумчивый, опустился на скамью. Теперь мрак не казался ему безграничным. Он точно знал, на каком расстоянии пальцы ткнутся в стену, где под ладонью сомнется хрупкий покров мха, а где ее оцарапают острые грани грубо вытесанного камня. Знал, что футом выше его головы в стене торчит ржавый костыль, с которого свисает единственное кольцо ручных кандалов, такое же ржавое.
Теперь он точно знал и еще кое-что. Он знал, что Пеппо никогда не пренебрег бы их хрупкой связью из пустой прихоти. Никогда не выбрал бы одиночество во мраке.
– Выходит, мы и правда нешуточно влипли, брат… – прошептал Годелот в пустоту. – Не беда, прорвемся.
…Конвойный, пришедший за кирасиром, был человеком тертым и узников повидал немало. Оттого весьма удивился, застав мальчишку-арестанта, покинутого без всяких объяснений за решеткой в полной темноте, безмятежно спящим.
* * *
Перед рассветом прошел дождь, и Венеция, отмытая от пыли, отряхнувшая туман, радостно гомонила под бездонно-лазурным небом, распевала на все голоса, хохотала, сквернословила, хлопала тысячами голубиных крыльев – словом, наслаждалась погожим воскресным днем.
У церкви Мадонны дель’Орто толпился народ, торопясь к мессе. Людские потоки, извергаясь из переулков, бурлили на площади и образовывали говорливые, смеющиеся водовороты. Детвора весело гоняла неповоротливых голубей, отъевшихся на городских отбросах и лениво вспархивающих из-под протянутых ручонок.
Среди непрерывного движения по-воскресному нарядных прихожан у церковной стены стоял черноволосый юноша. Он не спешил войти в храм, не высматривал знакомых, только бесцельно водил рукой по кладке стены, словно ощупывая узор трещин.
Ударил колокол к мессе, толпа на площади поредела, а подросток все так же терпеливо стоял у стены, кого-то ожидая. Солнце неспешно катилось по небу, снова площадь затопили десятки людей, а затем старинные плиты опять безмятежно залоснились в солнечных лучах. Юноша ждал, делая несколько шагов то в ту, то в другую сторону и снова возвращаясь к стене, будто к указателю. Вот тень колокольни отползла к краю площади, а яркие лучи ударили в смуглое лицо, но юноша не прищурился, позволив солнцу фамильярно заглянуть в кобальтовые глаза.
…Уже темнело, когда Пеппо поднялся с еще не выстывших растрескавшихся плит и хмуро потер лоб. Он вышел на середину площади, еще немного постоял, прислушиваясь к шагам редких прохожих. А потом двинулся к одному из переулков, то и дело замедляя шаги и снова вслушиваясь в вечерний городской гул.
Годелот не пришел.
Глава 13
Краденая смерть
Длинные полутемные коридоры, замшелые стены, лужи на выщербленном полу… Такие же крысоловки за толстыми решетками через каждые пятнадцать шагов, все до единой пустые. Годелот шел впереди своего конвоира, напоминая себе, что ему в любом случае сейчас хоть что-то объяснят. Однако где-то в глубине души, где живет примитивная мудрость поколений и куда не заглядывает логика, сидело чувство, что все чертовски скверно и если сейчас его выведут прямо в тюремный двор к эшафоту – он ничуть не удивится.
Но вот несколько крутых ступеней отсчитали поворот, и солдат распахнул перед шотландцем массивную дверь, закругленную сверху. Годелота ввели в длинную комнату с низким потолком, под которым из узкого, будто бойница, окна нехотя брезжил скупой дневной свет. Два факела ярко пылали на стенах.
В углу Годелот увидел печь, в которой плясало щедрое пламя. На каменном подклете были разложены инструменты неясного назначения, поневоле вызвавшие у кирасира желание отвести глаза. Под самым потолком виднелся мощный ворот с намотанной толстой веревкой, однако на него шотландец почти не обратил внимания: он никогда прежде не видел дыбу и не знал назначения этого грозного орудия.
За длинным столом шотландца ждали двое – седой писарь в неизменной доминиканской рясе и уже знакомый ему монах с покрытой клобуком головой. Отчего-то Годелот был уверен, что именно этот клирик вчера сидел напротив него в лодке.
…Мальчишка вошел и встал напротив стола. Руки связаны, колет измят, а ясные карие глаза смотрят спокойно и выжидательно. Он и правда спал. Иначе глаза были бы красны от дыма и усталости. Мерно взблескивают на груди пуговицы в такт дыханию. Не боится.
Отец Руджеро почувствовал прилив раздражения. Он допустил ошибку, оставив мальчишку на ночь в камере. Доминиканец имел дело с множеством арестантов и отменно разбирался в их нехитрой психологии. Проще всего с напуганными и плачущими людьми. Их нужно допрашивать немедленно, пока паника лишает их осторожности, и они говорят, говорят без умолку, клевеща на себя и других, и монаху остается лишь отделить зерна смысла от плевел пустой болтовни. Попадались и другие, те, что шли в крепость с поднятой головой, уверенные в своей невиновности или же безнаказанности. Их Руджеро оставлял на ночь поразмыслить, ненароком забывая заменить погасший факел. Глухая тьма и полное одиночество в замершем времени обычно деморализовали упрямцев, и наутро те были не в пример податливее.
Вчера юнец сидел в лодке напротив Руджеро, и монах видел, что лоб арестанта сух, а дыхание ровно. Но похоже, что и тишина темницы ничуть его не впечатлила. Что ж, хорошо. Руджеро всегда нравились крепкие натуры, как отличному лютнисту нравятся замысловатые пьесы.
…Несколько минут протекли в тишине, только печь мерно потрескивала горящими дровами да снаружи доносился едва различимый рокот волн. А потом монах выпрямился и откинул клобук.
Годелот молча смотрел в незнакомое лицо – узкое, суровое, тонкогубое, оно казалось нарисованным на фоне бурой растрескавшейся стены. И оттого еще более диковинно выделялись на нем большие глаза, внимательные, беспокойные, приковывающие взгляд: левый был темно-карим, правый – светло-ореховым. Кирасир все еще с невольным удивлением всматривался в эти необычные глаза, а доминиканец придвинул к себе тонкую стопу каких-то листов и промолвил спокойным низким голосом:
– Арестованный, назовите свои имя, возраст и род занятий.
Шотландец ответил, стараясь говорить так же невозмутимо:
– Годелот Хьюго Мак-Рорк, семнадцать лет, рядовой гарнизона ныне покойного графа Оттавио Кампано.
Монах кивнул писарю.
– Арестованный, подтверждаете ли вы, что прибыли в Венецию около двух недель назад из графства Кампано?
– Да.
– Подтверждаете ли вы, что вещи, найденные в вашей комнате при аресте, принадлежат вам?
– Да.
– Подтверждаете ли вы, что четыре дня назад нанесли визит в канцелярию церковного суда, где оставили письменное донесение о нападении на графство Кампано?
– Да.
– Подтверждаете ли вы, что все факты, перечисленные в нем, изложены вами добровольно и без стороннего принуждения или наущения?
– Да.
– Вы прибыли в Венецию один?
– Нет.
– С кем же?
– Со случайным попутчиком.
– Имя?
– Джузеппе.
– Фамилия?
– Не знаю.
– Звание?
– Подмастерье.
– Возраст?
– Мой ровесник.
– Вы упоминаете, что застали графство разоренным, вернувшись из отлучки. Где вы пребывали?
– В Тревизо.
– С какой целью покидали графство?
– Имел поручение от командира о закупке арбалетной тетивы.