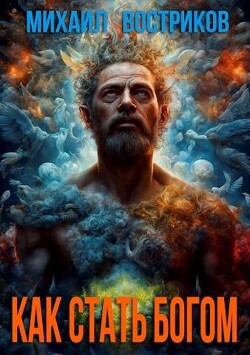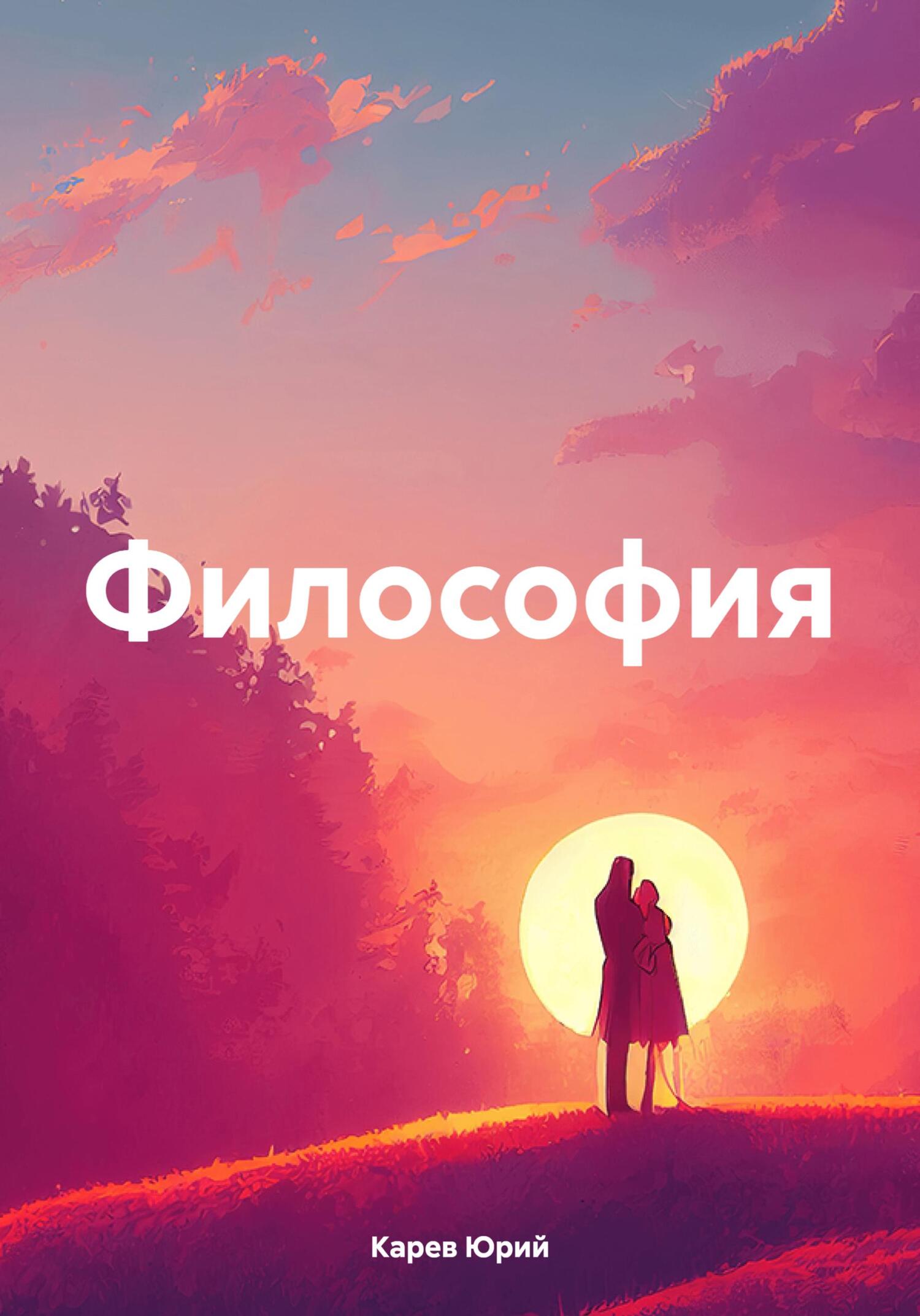Умру от счастья.
— А три?
— Можно четыре.
— А пять?
— Как дома побывать!
— А шесть?
— По уставу не положено.
И прочие прибаутки-фенечки ДМБ-восемьдесят пять.
СЮЖЕТ 21/7
«Боже мой, — думает Богдан, — Как же я все это любил раньше! Совсем недавно ведь, и пятилетки даже еще не прошло. Этот веселый общий гам, дым сигарет, звякание приборов у накрываемого стола, и запах гренок с луком и сыром, которые уже запекает в духовке Маришка, и предсмертное пшиканье откупориваемого пива, и толкотню по всей гостиной („извини, брат“, „ничего страшного, брат, топчи меня и дальше, такого-сякого“) — весь этот милый гармидер, всю эту раблезианскую, почти даже олимпийскую атмосферу предвкушения божественной Жрачки Духа и Тела. Ничего теперь не остаётся, кроме раздражения и желания уйти, похожего на тягучую ишиасную боль, и стыдной мысль: ладно, пусть, еще два, ну три часа, и все это кончится, и можно будет отправиться домой».
Галдят, как всегда, совершенно как обычно, будто ничего особенного не случается, — ни о чем и обо всем одновременно. О фигурном катании. О последнем сериале (который никто не смотрел, но почему-то все при этом в курсе). О ценах на нефть. О литературе, разумеется. И о философии. Мы испокон веков обожаем погалдеть насчет литературы и философии.
— Изъятие себя извне!
— Это еще что такое?
— Не помню. Вычитал где-то. «Эдипальность как изъятие себя извне».
— Юнг какой-нибудь?
— Очень даже может быть. Там что-то про ребенка мужского пола, который хочет скомпенсировать каким-то хитрым образом нехватку фаллоса у своей родной матушки.
— Жалко, Винчестера нет — он бы тебе настрогал цитат.
— Ничего, брат. Во-первых, он не столько их строгает, сколько идентифицирует. А во-вторых, мы и без Винчестера обойдемся: «Постмодернизм метафоризировал всеобщую метонимию авангарда-тоталитаризма».
— Круто. Красиво сказано. Сам выдумал?
— Нет. Это оттуда же.
— Бросьте, у каждой науки — свой язык.
— Однако же, есть наука, а есть — «созерцание стены», брат.
— Или еще лучше: есть физика, а все остальное — коллекционирование марок.
— Попрошу не касаться коллекционирования марок! Филателия — это святое.
— Я давеча полистал Ясперса — «Философскую автобиографию» — и ничего, ну ничегошеньки оттуда полезного не почерпнул. Кроме того, что Хайдеггер был, оказывается, нацистом. Откуда немедленно следует: в каждом море Ума обязательно найдутся острова Глупости. Но это я, положим, знал и раньше…
— Не Глупости, а Гнусности.
— Брось. Какая в данном случае разница?
— Не говори, брат! Еще какая. Как между карьерным дипломатом и карьерным самосвалом.
— Все равно: есть наука, а есть — «созерцание стены».
— Это Гильберт, кажется, сказал про какого-то бедолагу: «У него не хватило воображения для математики, и он стал поэтом». Погорячился великий человек. Тут дело ведь не в количестве воображения, а в качестве. Это все равно, что сказать про Беккенбауэра: у него не хватило силенок, чтобы стать тяжелоатлетом, и он пошел в футболисты…
— А кто такой Беккенбауэр?
— О боже! С кем мне здесь приходится общаться!
— Я давеча в одном доме уговаривал тараканов. Девчушка. Лет шестнадцати, очаровательная, как умывающийся котенок. Я стал ее клеить. Вижу — не врубается. Я спрашиваю: «Вы что, не знаете, кто такой Брэдбери?». «Знаю, — говорит, — психиатр»
СЮЖЕТ 21/8
Галдят, впрочем, не все. Тенгиз по-прежнему остаётся мрачен и молчалив. Глотает охлажденную водку, запивает минералкой, совсем не закусывая, только смотрит в пустую тарелку, а когда поднимает глаза, выпуклые, мрачные, с тяжелыми красными веками, мало кто выдерживает этот взгляд — неуютно становится и зябко и хочется сделать вид, что никакого этого взгляда нет, просто маленькое недоразумение возникло, а сейчас вот все разрешится и разъяснится наилучшим образом. И красив он страшен и великолепен одновременно, словно врубелевский демон.
'Красавец и здоровляга, и уж, наверное, не еврей".
«Дрянь дело, — думает Богдан, поглядывая на него украдкой, — Видимо, совсем ничего не получается. Видимо, кусок этот нам совсем уж не по зубам. А может быть, у него просто что-нибудь опять не ладится с княгиней Ольгой? Впрочем, княгиня просто терпеть не может нашу Маришку, вот почему ее здесь нет. И не надо. Господь с ней, без нее даже лучше»
А Маришка есть, как всегда, очаровательна (словно умывающийся котенок). Васильковые глаза. Грудной, с хрипотцой голос. И чудный смех, которым она награждает, словно орденской лентой. Своих дорогих паршивцев. Своих любимых мальчиков. Она точно знает, что мальчики не подведут. Никогда не подводили и теперь не подведут. А если кто-то дрогнет, она тут же окажется рядом и подставит плечо. Или улыбнется ему. Или просто скажет:
— Я здесь!
«Откуда в ней эта непостижимая вера в нас? — думает Богдан, — Ведь мы же, на самом деле, абсолютно бессильны перед мерзостью, перед любой злобной силой. Я не говорю уж про гангстеров и про сексотов — перед обыкновенным хулиганьем бессильны! Вот ты, Благоносец хренов, — можешь ты отбиться от пары гопников? Дать в рыло? Заехать гаду по яйцам? Зла ведь никогда у меня на это не хватает. А она все равно в нас верит. И эта вера, она так дорого стоит, что ее почти уже невозможно приобрести. Как любовь. Как здоровье. Как талант. Неужели мы и в самом деле лучше, чем выглядим?.. „В конце концов, все зависит только от нас самих!“. Увы. В том-то и дело. Я бы предпочел, чтобы все зависело от кого-нибудь понадежнее»
СЮЖЕТ 21/9
А герой дня Вадим бледен, глаза красные («Так вот ты какой — человек третьего тысячелетия!»). Хлопотливый Матвей очень нежно его опекает, настоятельно пододвигает закуску, бегает в кухню за минералкой, подбирает за ним падающие на пол вилки-ножики, видимо, фундаментально и основательно пугает его Вадим своими бабскими фокусами, и Великий Математик уже и не знает теперь, чего еще ему следует опасаться.
— М-м-м! Маришка! (Хрум-хрум.) Какие гренки! Божественно!
— А это что такое? Бифштексы?
— Не тормози! Бифштексни!
— Это не бифштексы, брат. Это ГОВНАТРУБ.
— Чево-о-о!
— Говядина натуральная рубленая, брат. Извини, брат.
— Слушайте! Прекратите жрать. Боба еще нет!
— Боба ждать — знаешь… Боб — человек подневольный: когда отпустят, тогда и придет. И ни минутой раньше…
— Ты только закусывай, пожалуйста. Я тебя умоляю, Вадим, не надирайся. Подожди…
СЮЖЕТ 21/10
Дзынь-дзынь-дзынь — ножом по краю рюмки. Тенгиз. Решает, что пора, и возбуждается к действию.
— Господа! Леди и джентльмены!