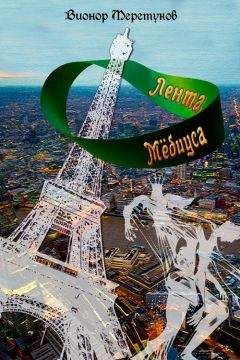— Ты любишь Париж?
— Конечно! Я же здесь родилась. А ты?
— Да, очень…
— Тебе не мешает это? — она пальчиком указала на Эйфелеву башню.
— Я не Мопассан, который бежал от нее…
— Мопассан? Бежал?.. Вот не знала…
— Вы здесь, в Париже, вообще мало чем интересуетесь…
— И почему же он бежал?..
— Она давила ему мозг своей пошлостью.
— Пошлостью? Как странно… А тебя не давит?..
— Нет. Эта башенка… понимаешь, когда я по утрам выхожу на балкон и вижу ее, я каждый раз удивляюсь и радуюсь, что я в Париже…
Она прищурилась:
— Послушай, художник, ты, правда, такой великий?
— Можешь не сомневаться, — сказал я самодовольно, — по сравнению со мной Модильяни маляр!
Последнее время Слава занималась моими делами. Ее деловая хватка доводила покупателей до белого каления.
— Скоро ты будешь миллионером… — сказала как-то Слава, пристально глядя на меня.
— Как?! Я еще не миллионер?! — возмутился я.
— Скоро ты будешь миллионером и бросишь меня…
— В таком случае я не хочу быть миллионером.
— Ты бросишь меня, и я опять буду одна…
— Слава, у меня нет никого ближе тебя… И ты это знаешь. Ты поразительно красивая женщина, и я тебя…
— Ты меня любишь!
— Да. Я тебя… обожаю.
— О, Господи!..
— Но умоляю, не дари мне больше галстуков…
— Но почему?.. Тебе не нравится?
— Нравится. Не очень…
— Тогда я подарю тебе носки.
— Этого еще не хватало!
— Тогда… тогда…
— Повремени с подарками.
— Я знаю. Я подарю тебе ребенка!
— ???
— Не бойся, трус! Я подарю тебе собачьего ребенка!
И вот теперь у нас в доме собака. Вернее, полугодовалый щенок колли. Нежное, беспомощное существо с мокрыми, стремящимися к поцелуям губами. Чтобы его кормить и выгуливать, пришлось нанять приходящую служанку, мадемуазель Нинель, молодую девушку с очень шустрыми глазами.
Нинель — русская, и у себя на родине, в Петрозаводске, она звалась Нинкой Шараповой. В чем мне она однажды — под страшным секретом — призналась. Подозреваю, у нее пестрое прошлое. Впрочем, о ком из нас нельзя сказать того же?
Таким образом, я постепенно обрастаю бытом. Сначала галстуки, теперь — собака. И уже как следствие — служанка…
Слава перестала материться. Я поинтересовался, почему?
— Ах, я устала. Я так устала! Всё в прошлом… Всё, всё, всё! — в прошлом…
…Опять утро, опять солнце, опять плетеные кресла, кофе, соломенные шляпы, соблазнительно распахнутый халатик, пленительные колени, от которых невозможно оторвать глаз… И Слава опять листает газеты.
— О тебе стали мало писать. Только "Монд" написала, что ты, оказывается, томился при Советах в тюрьме, отбывая наказание в одной камере с Солженицыным… Почему ты мне ничего об этом не рассказывал?
— Ах, оставь…
— Я заметила, ты вообще мне о себе почти не рассказываешь. У тебя ведь было прошлое? Ну, хоть какое-нибудь?
Я поборол в себе желание спросить: "А у тебя?.."
— Почему я не вижу мальчика… — спрашиваю.
— Какого еще мальчика?
— Мальчика на балконе, напротив… Он раньше всегда сидел там и читал книгу…
— Наверно, мальчик в школе… Ты слышишь, о тебе стали писать меньше… Дурной знак. Надо как-то всю эту журналистскую шайку расшевелить… — она перевернула страницу: — Ну вот, Мадонна снова выходит замуж… Ах, как интересно!.. Гибель людей в Швейцарских Альпах, снежная лавина погребла под собой шестерых лыжников… Все, я решила — мы едем в Альпы!
— Любоваться на трупы?..
— Я научу тебя кататься на горных лыжах!
— Поздновато… Неужели там только про Мадонну да про Альпы?..
— Не только. Ну вот, опять революция!..
— Интересно, где?
— Где, где… У вас в России, конечно!..
— Что ты мелешь?!!! — Я встал.
— Если не веришь, читай сам! Вот смотри! Власть народа, узурпатор, коммунисты…
Я взял газету. Увидел несколько фотографий. На одной был запечатлен Ванадий Блювалов на подмосковной свиноферме. Он натянуто улыбался, глядя в объектив.
По обе стороны от него располагались несколько откормленных хрюшек весьма добродушного вида. Казалось, они тоже улыбались. Если бы на политикане не было рубашки с галстуком, его можно было бы принять за родного дядю самого крупного хряка.
Это обстоятельство, видимо, не ускользнуло от журналиста, и под фотографией помещались злые слова: "Второй справа — лидер коммунистов В. Блювалов".
На другой фотографии я увидел огромную толпу на Красной площади и оратора, лицо которого, несмотря на темные очки, я узнал сразу. Это был Лаврентий Павлович Берия.
— Господи, Андрэ, что же будет? — в ужасе произнесла Слава.
В ее глазах стояли слезы.
Чтобы Слава плакала!..
… И вот мы в Москве. Слава никак не хотела отпускать меня одного. Она стала строже одеваться и, представляясь, величает себя моей гражданской женой.
Считает, что это почетно, — быть гражданской женой. Теперь ее любимая присказка — "Я как гражданская жена решительно возражаю…" или "Я как гражданская жена полностью согласна…"
Эта новая присказка окончательно похоронила другую — "У меня был миллион двести тысяч мужиков".
— Зачем тебе ехать? — поразилась она, когда я твердо объявил ей о своем решении вернуться. — Ты сошел с ума! Там тебя… я не знаю, что там с тобой сделают! Как твоя гражданская жена я…
— Гражданская жена, это что — титул? Или, может, звание?
— Не обижай меня! Если не хочешь жениться, оставь мне хотя бы это!..
Короче, она увязалась за мной, для получения визы включив весь свой арсенал знакомств и связей. И, представьте, очень быстро получила ее.
В самолете мы летели первым классом, и Слава поражала стюарда своим аппетитом. Он без конца носил ей подносы с едой. И когда он говорил ей положенные ему по штату любезности, казалось, что он ворчит от бессильной злобы и ненависти.
Наконец и я заинтересовался:
— Один мой приятель, человек верующий, страдающий ожирением и потому несчастный, умудряется прибавлять в весе даже во время Великого поста. Ты же ешь, как… Прости, но ты ешь за десятерых, посмотри, как на тебя косится прислуга, ты подчистую выгребла все их запасы, но я совершенно не уверен, что ты выйдешь из самолета, прибавив к своему весу хотя бы грамм. Нет, право, ты удивительная, необыкновенная женщина!
— Наконец-то я от тебя услышала приятные слова! — промурлыкала Слава, обгладывая куриную ножку.
В Шереметьеве мы наняли частника за сто долларов.
— Я не был в Москве больше двух месяцев, — осторожно сказал я водителю.
Поглядывая на меня в зеркальце, водитель после продолжительной паузы произнес:
— Кому — война, кому — мать родна. Пока мало что изменилось. Постреляли немного…
— Убитых много?
— Пока в воздух…
Когда мы вносили вещи в квартиру, явился Лаврентий Павлович и, неодобрительно посмотрев на Славу, сказал:
— Опять вы, Андрей Андреевич, новую привели…
Слава поставила чемодан на пол и повернулась ко мне:
— Это еще кто?
— Это… это… известный оратор.
— Я вижу, кто это. Ты что, живешь в общежитии? Я как твоя гражданская жена…
— Господи, — схватился за голову Берия, — гражданская жена…
— Я требую, чтобы эта лысая образина сейчас же убралась отсюда! Как ты можешь терпеть эту рожу?
— Слава, иди в гостиную, мне надо побеседовать с этим господином.
Слава фыркнула, смерила Берию презрительным взглядом и скрылась за дверью.
— Ну и фурия! — восхищенно воскликнул Берия.
— Не смейте так говорить о моей… жене!
— Когда это вы успели жениться? — подозрительно спросил он. — Мои люди из Парижа мне об этом не докладывали.
— Почему вы не в Кремле?
— Разве мы вас стесняем? — осклабился он. — А почему не в Кремле? Ах, не все так просто, дорогой Андрей Андреевич, — вздохнул он, — не все так просто… Революция — дело тонкое.