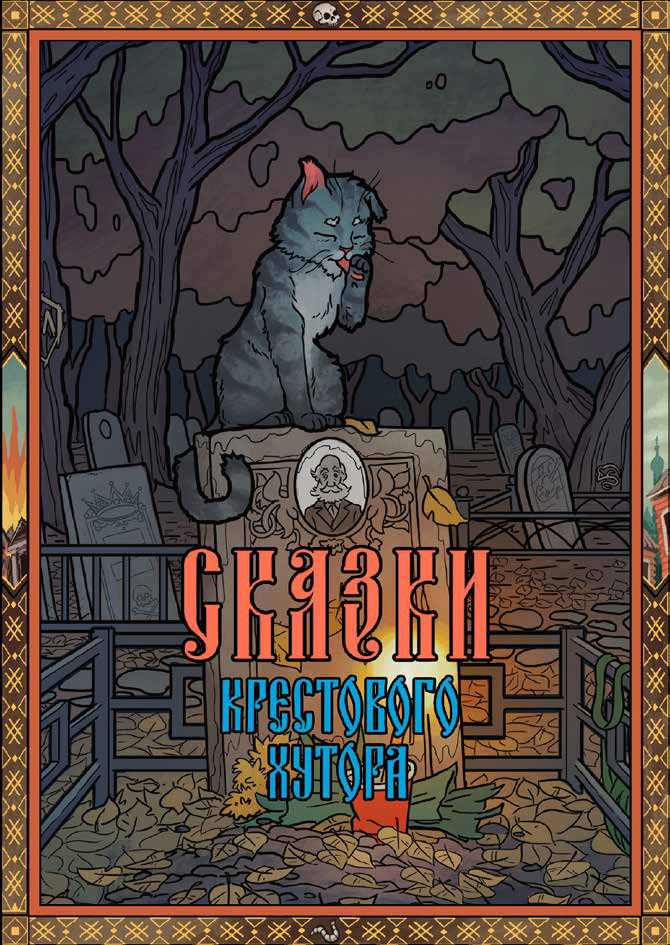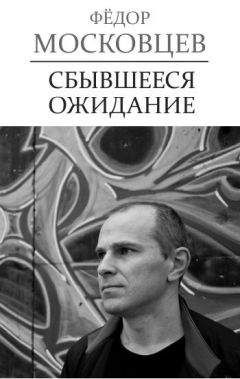которым будем жить мы и наши потомки. Заветы эти я услышал, побывав в геенне огненной, и горько заплатил за них телом своим. Внемлите, ибо недолог мой век, но мудрость должна жить в потомках.
Первое слово Федора Ивановича обогрело мне душу и вселило веру в наш вид, ибо сказал он: «Червь есть существо Божие, на всякую работу способное и облика своего не чурающееся».
Вторым заветом прозвучали слова, что подарили мне надежду на завтра: «Червь есть вершина, ибо им все заканчивается. Все вокруг есть пища для вас. Пейте кровь мою и ешьте тело мое, а также любой прочей твари, ибо дано вам право размножаться и покинуть меня, чтобы донести слово мое до каждого».
Третьим указом Бог открыл мир мне, ибо сказал: «Нет границ для червя, как нет границ для Бога, ибо от меня род свой ведете, ибо я отец ваш, ибо рассек я дланью и создал прародителей ваших. Потому не ведайте страха во время пути своего, плодитесь и размножайтесь».
Четвертым словом Федор Иванович указал права наши и возложил миссию на нас священную: «Восхваляйте Бога в делах праведных и не бойтесь врага своего, ибо настанет день и воцарится червь над всеми тварями и как на пищу на них смотреть будет».
И наконец, молвил пятое слово отец наш и тем словом закончил заповеди свои: «Да не обидит ни один червь червя, да не украдет и не обманет. Ибо все вы есть часть меня».
Стоны поднимались к потолку и растворялись в темноте. Разгоряченные тела касались друг друга. Словно сведенные судорогой, ноги Аленушки обхватили могучую спину богатыря. Соитие было полно страсти и животного отчаяния, как будто нет надежды на жизнь сегодняшнюю и все, что остается, – это верить в туманное, чужое будущее. Будущее детей.
Илья был нежен, что никак не сочеталось с хмурым взглядом, бородой и привыкшими держать оружие руками. Обнимая хрупкое тело девушки, богатырь искренне боялся сломать ей ребра или случайно свернуть шею. Когда стать брала верх над осторожностью, Аленушка ласково шептала ему: «Чуть легче, мой хороший, чуть легче».
Часы пробили полночь. Старая деревянная кукушка высунулась из своего домика, чтобы отсчитать двенадцать и снова спрятаться во тьму.
– Илюша, почему мы не можем быть вместе всегда? Не только сегодня? Я брошу журналистику, ты бросишь службу. Уедем и забудем это все. Ты же любишь меня, давно любишь. Я всегда знала. – Алена лежала на груди богатыря. Раскрасневшееся лицо и блестящие глаза делали девушку особенно прекрасной.
– Не знаю. Ты же так горишь своей революцией, своими идеями о свободе и равенстве. Неужели забудешь? – Илья смотрел в потолок такими же счастливыми глазами.
Только женщины и дети могут заполнить пустоту внутри, только их ласка способна заделать брешь в сердце и принести лучик света в жизнь, прожитую зря, подаренную не тем людям и не тем идеалам.
– А представь, если забуду? Почему я обо всех думаю, а себя забываю? Может, в том беда моя? Что людей люблю больше своей жизни? – Алена приподнялась и оперлась на локоть.
– Не знаю. Знаю, что если человек что-то делает, то он в первую очередь о себе думает и о своих идеалах. Вот выйди ты за меня три года назад, стала бы просто женой богатыря, а так ты себя почти лицом революции в историю записала. Если бы Царь с Федором Ивановичем не договорился, то все так бы и было. Я народ чувствую. Знаешь, когда та заварушка у Крестового хутора началась, они дрались до смерти. А чтобы народ до смерти дрался, его же довести нужно. Наполнить злобой. Именно это ты и сделала. – Илья говорил спокойно и даже слегка равнодушно.
В темноте не было видно, как из глаз Алены потекли предательские слезы. Такие, которые случаются, если трогаешь горячую сковородку, зная, что обожжешься.
– А что, если бы Царя вообще не было? Представляешь? Тогда бы все довольны остались. Ведь если почти получилось, значит, была на то причина, значит, народ-то согласен со мной. Народ, ты сам говоришь, не обманешь.
– Ты меня не слушаешь никогда. Народ обмануть легко, он как дите неразумное – кто слаще поет, под те песни и засыпает, а если леденец дать – то тятей кликать начнет. Но убери Царя, этот же народ все разворует и разграбит. Сразу из ребенка превратится в злющего разбойника, потому что когда все вокруг ничье, значит, это забрать можно.
– Илюша, Илюша, темный ты все-таки богатырь. Если все вокруг ничье – значит, все общее, а за общим всем следить надо. Тут тебе ни коррупции, ни преступлений, только общее благо. Народ будет служить народу. Федор Иванович за месяц смог в Крестовом хуторе такое построить, что Царь за все время правления не сумел.
Илья вздохнул. Не любил богатырь такие разговоры. Не любил и женскую черту после постели в душу лезть, как будто тела недостаточно.
– Аленушка, все решено уже. Царь победил, и на том спасибо. От революции я добра не жду. И тебе советую успокоиться. Ты и так дел столько наворотила, что расхлебывать полжизни придется. Лучше женой быть счастливой, чем революционером несчастным. Я так считаю.
– Это все потому, что Царь тебя не трогает. А на народ тебе плевать!
Илья резко встал с кровати. Нахмурил брови и начал одеваться. На могучей груди мелькнул золотой ключ на цепочке.
– Да брось. Ишь какой сердитый. – Алена встала напротив богатыря и опустила руку куда-то вниз. – А вот твой боевой товарищ никуда не хочет уходить.
Ночь снова закрутилась и запуталась в простынях. Перед самым рассветом Аленушка аккуратно сняла ключ с шеи Ильи. На цыпочках сходила на кухню за большим ножом и напялила мужскую одежду, приготовленную заранее.
Храп Ильи заставлял комнату ходить ходуном. Сон, усиленный заморским ядом, погрузил богатыря в далекое детство, когда батька выстругал первый деревянный меч и Илюша мчался навстречу змею, спрятавшемуся в стоге сена.
Аленушка, прижав нож к груди, прошмыгнула в шкаф и вышла в царской спальне. Аккуратно выглянув и удостоверившись, что комнату никто не охраняет, журналистка медленно, но решительно подошла к кровати, на которой спал правитель Тридевятого царства.
– Федор Иванович, может, лучше вас отвезем? Я настаиваю. Скоро ночь, а в темноте, сами знаете, многое может случиться. Я вот