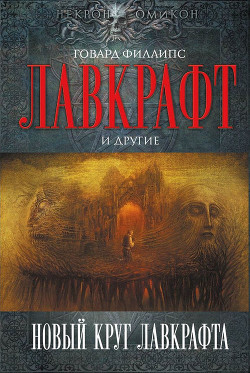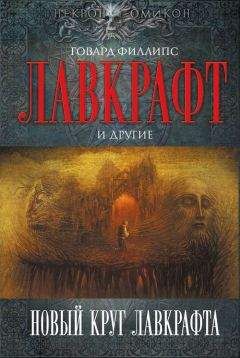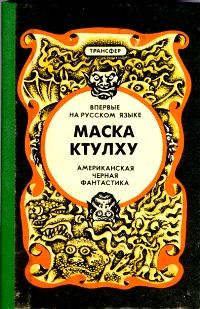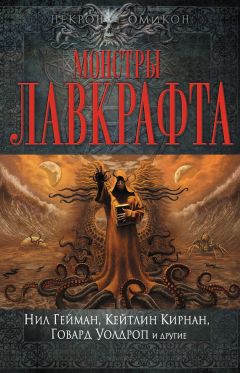Но как только видение достигало совершенной четкости и приглашающе распахивало объятия — вот оно я, твое тайное сновидение! — все вдруг начинало стремительно удаляться, оставляя его на краю безвидной пустоты, в которую даже сны не были вхожи. Пейзаж исчезал, становясь все менее четким, схлопываясь в размерах. И тогда перед ним протягивалась единственная улица, в конце которой перспектива придвигала друг к другу стены домов. А за спиной, в противоположном конце улицы, возвышаясь над крышами, вырисовывалась огромная фигура. Нависающий над головой колосс не шевелился и не издавал ни звука — просто запирал выход из единственной улицы и закрывал некогда чистый горизонт. С его места прекрасно просматривалось, что тень растет на глазах, поглощая другие улицы и детали пейзажа, которые терялись, размывались и на глазах уменьшались, исчезая. А закрывающий полнеба силуэт казался принадлежащим человеку, но также и хищной плотоядной птице.
И хотя в течение нескольких ночей Виктор Кейрион успевал проснуться до того, как стервятник успевал всосать в себя все, не оставалось никакой уверенности, что так и продолжится и что когда-нибудь весь сон не утечет к неправедно им овладевшему существу. И тогда он решился на действие, которое требовалось совершить, если он хотел сохранить для себя долгожданный и драгоценный сон.
«Вастариен», — прошептал он, стоя посреди залитой лунным светом голой комнатки, в углах которой затаились тени.
Массивная металлическая дверь была крепко заперта — он не сможет покинуть комнату, даже если захочет. А в двери тускло блестел стеклянный прямоугольник — оконце, через которое день и ночь наблюдают санитары. А окно, которое смотрело на город, который не был Вастариеном, было забрано толстой железной сеткой. Никогда, пропел голос, возможно, принадлежащий ему самому. Никогда, никогда, никогда…
Когда дверь распахнулась и в нее вбежало несколько человек в больничных халатах, Виктор Кейрион кричал на пределе голоса и пытался забраться вверх по толстой решетке, карабкаясь вверх, вверх, хотя что бы он мог отыскать наверху?.. Там ведь не было выхода… Конечно, они стащили его вниз, растянули на кровати, прикрутили ремнями за руки и за ноги. А потом в дверь вошла медсестра с тонким шприцем с серебряной иглой.
Пока ему делали укол, он продолжал кричать — о, все это они уже слышали, и не раз. Во время каждого такого приступа буйства пациент пытался донести до всех мысль, что его здесь держат безо всякой справедливой причины, что человек, которого он убил, использовал его в ужасных целях, но те цели невозможно ни объяснить, ни понять обычному человеку… Тот человек не мог прочесть книгу — ну да, ту самую книгу, — поэтому он похищал сны, которые книга порождала. «Он крал мои сны», — бормотал он снова и снова, и все медленнее и медленнее — успокоительное начинало действовать. «Крал мои…»
Санитары стояли около кровати и молча смотрели на привязанного к ней человека. Тогда один из них указал на книгу и начал разговор, очень знакомый для каждого из присутствовавших.
— Ну и что нам с ней делать? Сколько раз забирали, и смотрите — каждый раз появляется новый экземпляр…
— Тогда нет никакого смысла уничтожать их. Посмотрите на страницы — на них же ничего нет…
— А почему он тогда сидит и читает ее — дни напролет? Только читает и читает!
— Мне кажется, нужно сообщить в вышестоящие инстанции.
— Нет, конечно, сообщить-то можно, но что мы, по-вашему, должны им сказать? Что пациенту следует запретить читать одну книгу? Потому что он становится буйным всякий раз, когда читает ее?
— Ну да. А тогда они спросят, почему же мы не можем отобрать у него книгу. Почему не можем убрать ее насовсем. И что нам сказать на это?
— Ничего не скажем. А что мы можем сказать? Правду? Чего доброго, нас самих тогда примут за сумасшедших… Только рот раскроем — сразу в соседние палаты упекут…
— А если кто-нибудь спросит, почему он так привязан к этой книге? И вообще, спросит, как она называется? Что мы ответим?
И, словно отвечая на этот вопрос, намертво прикрученное к кровати, обвиняемое в страшном убийстве, безумное существо застонало. Но никому не дано было понять смысла произносимого слова (или нескольких слов?..), даже самому пациенту. Ибо ныне он пребывал вдали от всякого слова, в тихой глубине сна о месте, где всякая вещь и всякое слово преображались в нездешнее, и из этой тихой глубины он совершенно не искал выхода, ибо не желал покидать ее.
Питер X. Кэннон
БЕЗУМИЕ ИЗ КОСМОСА
I
Домашние и друзья изрядно удивились моему несвоевременному возвращению из колледжа — как-никак, до начала пасхальных каникул оставалась целая неделя. Однако я так долго рассказывал о некоем непредвиденном и раннем окончании семестра, что мне в конце концов поверили — или сделали вид, что поверили; ибо действительные причины столь раннего прибытия в отчий дом я опасался обнаружить и намеком. Хотя, безусловно, когда-нибудь мне придется открыть им — равно как и всему миру — правду о судьбе моего соседа по комнате и ближайшего друга, Говарда Вентворта Энейбла, коий ранним утром 15 марта 1929 года вошел в зимний лес на холмах к западу от университета в городке Аркхэм, Массачусетс, и навсегда исчез в них. Во всяком случае, таково всеобщее мнение. Однако «правда» — понятие растяжимое, и насколько растяжимое, придется решать мне, а я не желал бы, чтобы близкие признали меня безумцем, подобно тому несчастному, чью странную и печальную историю я намереваюсь здесь поведать. Признаюсь, отношения наши в последние месяцы стали несколько натянутыми — закономерное следствие ухудшения душевного и физического состояния моего друга. Однако эти обстоятельства ни в коей мере не отменяют теплоты и участия, с которыми я всегда относился к моему другу.
Боюсь, я последним из людей видел моего товарища живым, ибо существуют некие доказательства — поверьте, весьма красноречивого и убедительного толка, — о коих ради сохранения коллективного сознательного (в противоположность бессознательному) человечества в здравии лучше умолчать, и они недвусмысленно указывают на то, что друг мой нечаянно вторгся в области космического ужаса, из коих ни единый смертный не может вернуться невредимым.
Долг предписывал мне сообщить горестную весть матушке и бабушке Энейбла, кои проживали рядом с центром старинного колониального городка, и поставить их в известность о моих самых страшных подозрениях. Однако я не собирался, конечно, посвящать их в детали увиденного мной — ибо оно, вне всякого сомнения, настолько ужасно, что не предназначено для слуха леди. Впрочем, семейство Энейблов, как мне кажется, ожидало, что судьба их отпрыска подойдет к подобному концу, и ожидало его с присущим таким семействам стоицизмом, достойным первых янки. За моим сообщением последовало расследование, частное и неприметное, о результатах коего публика узнала лишь из краткой заметки в «Аркхэм Эдвертайзер».
Полиция до сих пор пребывает в уверенности, что Энейбла похитили: на это, по их мнению, указывают перевернутая мебель, разбитое окно и разбросанные по спальне книги. Родственники Энейбла, тем не менее, признавали, что юноша поддерживал связь с весьма нереспектабельной сектой, устроившей некое подобие лагеря в холмах за Аркхэмом. Эти фанатики вполне могли отомстить ему за то, что в их горячечном воображении виделось как нарушение законов и правил. Поисковые отряды не обнаружили следов Энейбла и его предполагаемых похитителей в лесах (кстати, сектанты могли убраться из этих мест задолго до происшествия) и после нескольких дней бесполезных экспедиций в холмы признали свое поражение.
Не приходится сомневаться, что меня подвергли детальному допросу, однако я сумел выказать весьма убедительную для властей уверенность, что ничего не знаю о связях молодого Энейбла со странной публикой с холмов. Мне понадобилась вся имеющаяся у меня сила воли, дабы подавить рвущийся наружу крик ужаса и отчаяния и ограничиться проявлением лишь приличествующих случаю горя и растерянности. По правде говоря, я до последнего думал, что горячечные речи Энейбла суть проявление его излишней увлеченности теософией, никого еще не доводившей до добра… что ж, человек разумный и впрямь навряд ли бы принял безумные высказывания юноши за чистую монету — скорее, он увидел бы в них растревоженный бред психически нездорового человека. Однако теперь я понимаю, насколько заблуждался, и в силу своей осведомленности, увы, могу стать жертвой тех же жутких сил, что лишили жизни моего бедного друга. Именно поэтому, желая, чтобы для потомков сохранилась подлинная запись всего, что случилось этим тихим весенним днем, столь радующим всякого, живущего в Новой Англии, я пишу о том, что произошло, пока память о жутких событиях еще свежа и я еще числю себя среди живущих.