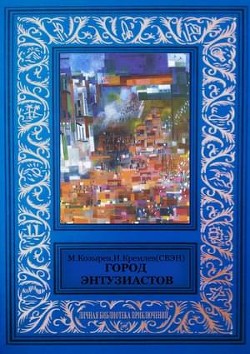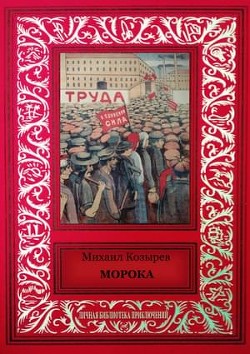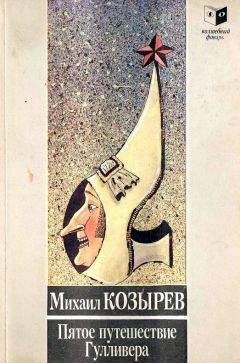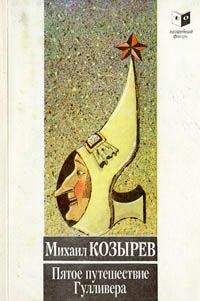Локшин зашел в магазин. За прилавком, расположившись на корзинах со свежим зеленым луком, отчаянно храпел дежурный приказчик, в полусне отмахиваясь от полусонных мух и от раздражающего электрического света.
– Товарищ, – сказал Лакшин.
Приказчик вскочил, испуганно взглянул на Локшина и протер глаза.
– Вам что собственно, – хриплым голосом спросил он, недоуменно оглядывая посетителя, прервавшего его, может быть, весьма заманчивые сновидения.
– Шоколаду. Да нет, не того… Дайте «Золотой ярлык»… Нет, нет, я прошу именно эту плитку.
Приказчик, пытавшийся отпустить покупателя, не прерывая счастливой дремоты, был окончательно разбужен. Взяв у Локшина чек, с трудом полученный от спящей в своей клетушке кассирши он сел за прилавок и принялся читать газету.
– Ага, – злобно подумал Локшин, – я вам не дам спать.
И уже просто из озорства он разбудил моссельпромщика, купив у него, коробку спичек, потребовал, у спящего газетчика «Ночную Москву».
Переждав на углу быстрый, подобно летучему голландцу мчавшийся на всех парусах трамвай, ярко освещенный, но, увы, в обоих вагонах перевозивший только двух безнадежно сонных кондукторш, Локшин прошел на Тверскую. Он старался теперь не замечать витрины пустых магазинов, бессонные мысли его приняли иное направление.
– Если, – рассуждал он, – в ночное время в магазинах нет покупателей, то это значит, что каждый из магазинов работает впустую три-четыре часа. Часть дня они работают при неполной нагрузке. Предположим, что в каждом магазине пять, человек приказчиков, а всего магазинов…
Увлекательные ряды цифр, – сначала двухзначных, потом трехзначных, строились в ряды и в столбцы, набухали, становились все крупнее и крупнее. Локшин поспешно переводил часы в дни, дни месяцы, вычислил заработную плату, сообразил, сколько бы машин можно был приобрести на всю сумму напрасно выданной заработной платы, и оказалось что только за один год на потерянные средства можно отстроить новый фабричный поселок с населением в несколько тысяч человек.
– Все это мы теряем. А почему?
Цифры пересекались друг с другом, столбцы и ряды красноречивым, укором пылали в возбужденном мозгу. И как два года назад, они с неумолимой логикой свидетельствовали против него. Тысячи и миллионы, хвостатые, двойки, глазастые нули, острые колющие единицы настойчиво нападали, брали барьеры и заграждения, шли в штыки и, наконец, свалили утомленного, обессилевшего Локшина на одну из скамеек Тверского бульвара.
– Дурак, какой же я, однако, дурак!
Так что же? Отказаться от всего, выступить против; диефикации и вместе с Буглай-Бутаевским оперировать на страницах «Голоса» этими рядами внезапно перекрасившихся цифр? Значит они правы, – и ехидный человек в кепке, и лиловый старичок, и Ипатов, и ныне враждебно настроенный к нему Сибиряков. Значит он, Локшин, с такой настойчивостью и упрямством пронесший свою идею через годы издевательств и насмешек, был только смешным мономаном, достойным разве что плоских шуток Паши и Петухова. Бугаевский, Сибиряков, Кизякин – все отвернулись от него.
Напротив, рядом с такой же скамейкой, молодая липа распускала остро пахнущие, словно покрытые лаком листки. Дальше в молочном тумане рассвета старые липы поднимали убеленные сединами северного мха корявые, усталые ветви, чуть-чуть зеленея едва набухшими почками. Тверской бульвар, еще не растревоженный дневным движением, был наполнен утренним свежим запахом первобытной весны.
И вдруг всем своим существом Локшин почувствовал эти, нежные запахи, причудливым рядом ассоциаций сплелись они с запахом духов, запах духов – с зеленой будкой автомата, зеленая будка – со шкафчиком стиля ампир, шкафчик с голубой выщербленной елизаветинской чашкой, и от всего неумолимым рефлексом возникла настойчивая потребность поднять гремящую тяжелой цепью трубку автомата и отбить на вертушке:
– В-1 – тридцать шесть восемьдесят четыре.
– Да, да… Слушаю. Хорошо. Нет, я уже проснулась. Напротив кафе? Отлично. Хорошо, милый…
Локшин не помнил своих слов, запомнились только ее короткие ответы и особенно последнее слово «милый», напоминавшее распустившийся, покрытий масляным лаком липовый листок.
Он нетерпеливо ходил по бульвару взад и вперед в бесплодной борьбе с упрямыми, грузно напирающими потоками бессмысленных цифр.
– Я не опоздала? Ты, наверное; заждался?
Ольга схватила руку Локшина и уже не выпускала из своей.
– Ты видишь, я не успела даже одеться. Что с тобой?
Локшин в другое время заметил бы, что Ольга одета была не хуже, чём всегда, что за короткий срок она успела соорудить довольно-таки замысловатую прическу, придававшую ее лицу сходство со старинными портретами, он заметил бы настойчивую небрежность, с которой было накинуто лёгкое шелковое платье, но сейчас он думал только о том, как бы не выпустить из своей руки ее теплую руку.
– Устал, разнервничался, – говорила Ольга, выслушивая несвязные признания Локшина. – Ну, конечно, ты работал так, что самые крепкие нервы не могли бы выдержать.
Локшин торопливо излагал результаты своих вычислений, но она не слушала и только, изредка окидывая его взглядом из-под удивленных бровей, повторяла:
– Да… – Да…
А когда он кончил, просто, по-деловому сказала:
– Да, тебе надо отдохнуть. Сядем здесь и сообразим. Ты, наверное, давно не пользовался отпуском.
Этот простой, такой житейский вопрос отрезвляюще подействовал на Локшина.
– Я никогда не думал об этом.
– Ну, так вот. Значит ты можешь уехать на месяц. Даже на два.
– Бросить все?
– Есть же у вас работники, кроме тебя? Нельзя же доводить себя до такого состояния. Сейчас весна – представь, как хорошо на даче…
Она наклонилась и еле внятно прошептала:
– И я с тобой… ты понимаешь – всегда. Ты просыпаешься – я с тобой, – громче повторила она и смутилась.
– Да? – скорее почувствовал, чем услышал Локшин уверенный, не нуждающийся в ответе вопрос и, весь дрожа от непонятного волнения, ответил:
– Да.
– Я даже знаю, куда мы поедем. Я сегодня же позвоню. Впрочем, можно сейчас позвонить – из автомата. Павел Елисеевич меня не раз приглашал, – у него совершенно пустая дача на Николиной горе. Я возьму ключ и мы сегодня же поедем.
– Сегодня? – переспросил Локшин, все еще не разбираясь, решил или не решил он бросить дело всей своей жизни в самый тяжелый момент, накануне, как казалось ему, полного краха.
– Конечно, сегодня, – уверенно ответила Ольга, – ты отдохнешь, а здесь ничего не произойдет, все останется на своем месте. Решено?
– Не знаю как… Я поговорю с Сибиряковым.
Сибиряков нисколько не удивился, когда Локшин заговорил об отпуске.
– Дело хорошее, – ответил он, иронически, как показалось Локшину, оглядывая его из-за дымовой завесы.
Немедленное согласие поразило Локшина сильнее, чем, поразил бы самый резкий и непреклонный отказ.
– Значит я им ненужен, – и переспросил: – А кто же меня заменит?
– Может заменить, пожалуй, Кизякин…
Локшина поразило, что и вопрос о его заместителе как-будто бы был давно разрешён. Значит Сибиряков давно, думал о том, чтобы снять его, Локшина, и с этой целью пригласил в комитет Кизякина.
Подписывая, заявление об отпуске, получая от кассира пачку червонцев, он чувствовал, что комитет по диефикации медленно отходит от него, подобно тому, как отходит пристань от отплывающего парохода.
– До свиданьица, – подобострастно сказал швейцар, подавая Локшину пальто, – теперь нескоро увидимся.
– А может быть я сюда совсем не вернусь, – с грустью подумал Локшин.
Вечером с небольшим ручным чемоданом он сел в вагон автопоезда Москворецкой дороги, проходившей по берегу Москвы-реки до города Рузы.
Ольга почему-то села в другой вагон.
Глава четвертая
Николина гора
До крутой и узкой лестнице Ольга; весело вбежала на балкон и положила на плечи Локшина розовые от молодого загара руки. Локшин улыбнулся самодовольной улыбкой счастливого человека и перецеловал один за другим ее пальцы.