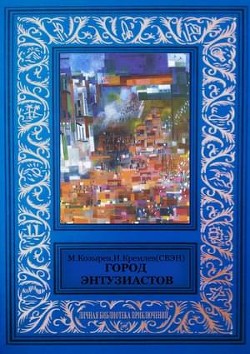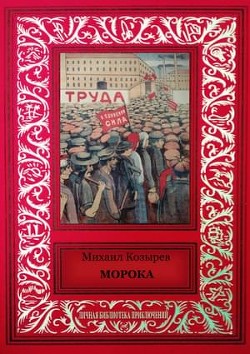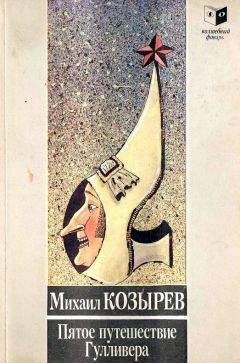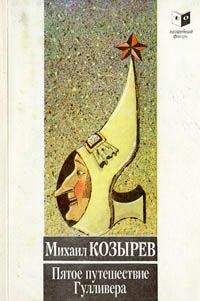– Ты что ж так долго? На дачу сегодня поедешь? – спросил он, – А мы тут совещание устроили. Это вот с АМО, этот с «Каучука», этот с «Русскабеля». Хочешь – послушай; а то ты ведь отпускной, мы и без тебя.
Увидев Локшина рабочие замолчали, один из них потушил только-что закуренную папиросу и, не найдя пепельницы, ткнул ее в чернильницу. Локшин хотел о чем-нибудь спросить представителей заводов, понимал, что это даже необходимо, но не нашел ни одного подходящего, слова. Бросив несколько незначащих фраз, он прошел к Лопухину.
– Александр Сергеевич – с деланной приветливостью встретил его Лопухин и тотчас же склонил над столом модные бакены. В этих склоненных бакенах и выжидающе застывшем над листом графленой бумаги пере Локшин почувствовал тревожную напряженность.
– Алексей Викторович, я специально приехал, – начал Локшин и запнулся. Он хотел сказать, что приехал специально для того, чтобы выяснить, вполне ли обосновано распоряжение о консервации «Красного Пути», для того, чтобы проверить, не допущена ли ошибка, что он приехал сегодня в комитет для того, наконец, чтобы прямо в упор поставить тот вопрос который мучил его последнее время неясными подозрениями.
Но вместо этого Локшин спросил:
– А что на заводе «Вите-гляс»?
– Ничего, – равнодушно ответил Лопухин, – только..
Вечное перо припало к бумаге и оставило на ней черное расплывающееся пятно. Бакены взметнулись вверх и опять упали.
– Только последнюю смету нам не утвердили. Денег не дают.
Последняя смета, о которой говорил Лопухин, была сметой на ремонт оборудования завода. Некоторые специфические условия нового производства не были предусмотрены, и в первые же месяцы оказалась необходимость в ремонте, невыполнение которого могло привести к самым нежелательным последствиям.
– Ну, и что же вы? – с тревогой спросил Локшин.
– Хлопочем, – уклончиво ответил Лопухин и, подняв ставшие неожиданно ясными глаза, добавил: – о чем вам беспокоиться, Александр Сергеевич, ведь вы в отпуску.
Локшин понял, что здесь, в учреждении, основанном им, в учреждения, где каждая мелочь была им продумана, он, как это ни странно – чужой.
Внимательные уши Паши вынырнули из-за двери и спрятались. Паша даже не вышел. С затаенным, чувством обиды Локшин ушел из комитета и сел в запыленный вагон подземки.
Желтые, вечно ночные стены тоннеля пробежали мимо окон. На остановках вместе с новой толпой пассажиров в вагон вползала удушливая струя копоти. Нервная кондукторша до хрипоты ругалась с настойчивыми пассажирами, упорно отказывавшимися понять, что вагон не резиновый и местов в проходе нет.
На Страстной, все еще не решив, куда он поедет, – к Сибирякову или по поручению Ольги за покупками: несмотря на внезапный отъезд и ночную тревогу, Ольга не забыла дать ему десяток поручений, – Локшин зашел в столовую.
Недавно открытая в специально отстроенном здании, столовая эта была предметом гордости МСПО. В ней был конвейер, по которому двигалась воловья туша, из глыбы синеватого в фиолетовых клеймах мяса превращавшаяся в жирные яйцевидные, утопающие в томате битки соус метрдотель. Здесь были автоматические подъемники, почему-то в назначенный час застревающие между третьим и четвертым этажами, здесь были, наконец, автоматы, всего лишь за четвертак снабжающие посетителя самым разнообразным ассортиментом кушаний, начиная от, сосисок с капустой, кончая салатом «весна»? – но почему-то редкий обладатель четвертака мог воспользоваться преимуществами новых аппаратов: обычно фишка не пролезала в отверстие, угрюмый официант предлагал опустить в другой автомат, но и в том из узкой щели безнадёжно торчал царский пятиалтынный.
Столовую эту в Москве так и называли – «четвертак» и лишь немногие удосуживались прочесть почти невидную снизу небольшую вывеску: «Столовая имени Юрия Олеши».
Если бы заинтригованный посетитель стал расспрашивать, то весьма вероятно, что дежурный буфетчик, в третий раз сказав рассеянному человеку с талоном, что битков нет, и, пренебрежительно отвернувшись от него, объяснил бы, что столовая названа так в честь какого-то Олеши, а кто он был – в точности неизвестно, но, кажется, ветеран труда и изобретатель конвейера для битков соус метрдотель.
Локшин взял порцию битков, кое-как подцепил на единственный заржавленный зуб единственной оказавшейся в конвейере вилки разваливающийся биток, понюхал пропахший несвежим салом комок и, оставив его на тарелке, направился к выходу. Швейцар загородил дверь:
– А карточка?
Локшин по рассеянности забыл уплатить. У кассы тянулась длинная очередь. Локшин встал за дамой в старомодной мантилье, углубился в невеселые мысли и очнулся только тотда, когда знакомый до боли голос прокричал над самым ухом:
– Следующий!
За сверкающим алтарем автоматической кассы он увидел помолодевшую и как-то подтянувшуюся Женю.
– Ты? – сказал он и тотчас же поправился. – Вы?
Женя, не отвечая, взяла его карточку, подсчитала итог, и только по тому, как прыгал в ее руках карандаш, было видно, что она взволнована и озадачена не меньше Локшина.
Локшин не видел Жени давно, – скандал, устроенный ею перед поездкой в Кремль, был последним. Уже давно она не писала ему, не звонила, не заходила в комитет. И если первое время это радовало Локшина, то теперь было неприятно: он не ждал, что Женя так скоро забудет о нем.
Услужливый Паша, правда, гадливым шепотком иногда давал ему понять, что он встречается с Женей, что к Жене частенько заходит Сибиряков, и что между Женей и Сибиряковым что то есть. Вспомнился Локшину и последний разговор с Сибиряковым о Жене, когда Локшин пожаловался ему на сцены, устраиваемые Женей, тот вместо сочувственных слов, сердито засопел трубкой и так же сердито уронил:
– Все вы мастера жен бросать!
Как Женя живет, какие отношения у нее с Сибиряковым прав ли услужливый Паша – вот что занимало Локшина. Но вместо всего этого он спросил:
– Вы служите? Давно?
– Служу, – быстро ответила Женя, – и очень довольна. С вас восемьдесят семь. Ты женился?
Кто-то больно надавил плечо, еще кто-то ударил Локшина ридикюлем по руке и он пригнувшись, влез головой в окошечко кассы.
– Елка скучает, спрашивала о тебе, – сказала Женя, взволнованно придвигая сдачу, – получите Вам тринадцать.
– Хорошо, – ответил Локшин, – я постараюсь…
Негодующая очередь окончательно оттеснила его, он обернулся, но кроме знакомого узла каштановых волос над блестящей клавиатурой кассы ничего не увидел.
Выйдя на улицу, он из ближайшего автомата позвонил Сибирякову.
– Уехал в Ленинград.
– Надолго?
– Недели на две.
Сиреневая пелена наступающего вечера быстро опускалась на задыхающуюся Тверскую. Суетливая беготня по магазинам, стояние в хвостах, грубые окрики приказчиков, многообразие ассортимента вещей, заказанных Ольгой – а тут был и только-что вышедший десятый том Клима Сангина, и объёмистый курс термодинамики, и заграничные чулки, обязательно марки «Виктория», и два кило пиленого сахара, и консервы, и платье, которое надо было получить от портнихи, – все эти поручения заняли несколько утомительных часов.
Когда, обвешанный многочисленными покупками, он вышел от портнихи, над колодцем двора в черном, душном небе плавились звезды. Но левый над багровеющими крышами край ночного неба был весь в зеленовато-прозрачном зареве. Локшин спустился по Тверской: выхваченные чудовищной лавиной света дома напоминали феерические города киносъемок. Искусственное солнце академика Загородного исполинским маяком возвышалось над зданием Моссовета. – издали оно казалось сильно увеличенной, окруженной мигающими кольцами зеленоватой переливающейся луной.
У Моссовета и в сквере на скамьях, на каменных карнизах ограды сидели и лежали полуголые подростки.
– Ты ореховым маслом мажься, – кожа не шелушится, – услышал Локшин молодой женский голос.
– Нюрка совсем коричневая.
– Она и на Клязьме и две недели загорает.
Локшин недоуменно взглянул на загорающих под искусственным солнцем людей и с удивлением убедился, что ярко освещенные спины были действительно покрыты бронзовым слоем загара.