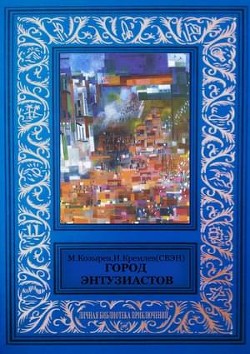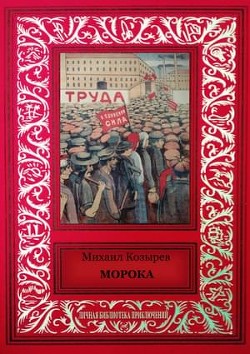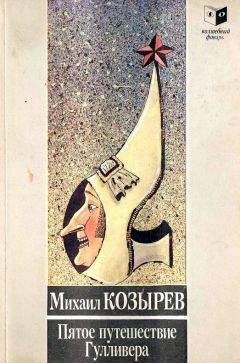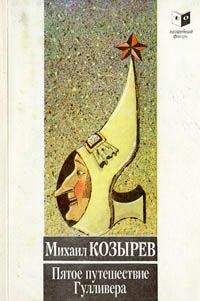Радость Юрия Степановича была так велика, что он не заметил даже столь очевидных противоречий в двух показаниях одного и того же телефона: ему нужно было видеть ее. То чувство, которое она так недвусмысленно проявила вчера, – не исчезло ли оно: вот какая мысль тревожит всегда влюбленных. Странно применять этот эпитет к Юрию Степановичу, – но каким другим именем назовем его после всего, что о нем сказали?
Была ли в тот вечер Муся больна, или болезнь была только одним из многочисленных капризов ее – но только Муся действительно лежала в постели. На белой подушке в художественном беспорядке разбросаны золотые волосы, белое кружево рубашки, сквозь которую просвечивает грудь, обнаженные руки, будто бы в бессилии упавшие на одеяло – все это делало Мусю такой желанной и такой привлекательной.
– Дайте мне воды, – потребовала она. – Поправьте подушку.
Он дал ей воды, поправил пахнущую духами теплую подушку. Она без устали болтала о вчерашнем вечере, смеялась, а потом вдруг как бы вспоминала о болезни, и лицо ее принимало усталое, страдальческое выражение.
– А этот ваш архитектор – я и не думала, что он такой… В синей рубахе, с бородой…
– Для оригинальности. Хочет быть интересным, – ответил Бобров, почувствовав за словами Муси нескрываемое любопытство к личности архитектора.
– Нет, он и верно ни на кого не похож. Сидит и мурлычет, как кот. А говорит сладенько, сладенько, словно… целует.
Муся засмеялась сухим взрывчатым смехом, показывающим особенное ее возбуждение. Этот смех показался Боброву неприятным, – как ни странно, он начинал ревновать Мусю к архитектору.
– Что же – он незаурядный человек, – ответил Бобров, – только слишком много притворяется, говорит всякие глупости и заставляет им верить.
– Что ты – глупости. Он умные вещи говорил. Знаешь о чем он вчера говорил? О любви…
Бобров тревожно взглянул на Мусю.
– Что ж тут удивительного? Говорил. Собственно не о любви даже, а о вине. Вино, говорит, как и любовь… маленькими глотками пить надо…
Муся опять засмеялась. Тревожное настроение нарастало и нарастало. Бобров попытался поближе подвинуть стул, чтобы касаться кровати, и даже положил руку на одеяло, чтобы незаметно прикоснуться к Мусе – но Муся заметила это и отняла его руку. Не было сказано ни слова – но Бобров чувствовал, что сегодня он неизмеримо дальше от Муси, чем вчера, и что сегодня она неизмеримо желаннее, чем вчера. Кто виноват в этом? Он сам? Архитектор?
* * *
Большое дело, как и большую тяжесть, трудно лишь сдвинуть с места, но зато, раз приведенное в движение, оно идет силой инерции, разрушая все препятствия, стоящие на пути. Но зато маленькое дело, которое так легко начать, тем больше и больше затруднений представляет в дальнейшем своем движении. Оно постоянно тревожит, постоянно волнует, требует постоянных забот и усилий. Такое маленькое и неважное и вдобавок личного характера дело стало отнимать у Боброва больше усилий, чем огромное дело постройки рабочего городка.
– Сказать ей все сразу, – и конец, – думал он возвращаясь домой: – Что же это на самом деле – она играть со мной вздумала.
Но такое, казалось бы, простое задание – прямо сказать, прямо спросить и получить ответ – оказалось невыполнимым. Она не понимала намеков, она не понимала даже прямых вопросов. Началась длинная и мучительная борьба, полная неожиданностей, волнений и тревог, о которых прежде герой наш не мог и догадываться. Казалось, что с ним повторяется один из забытых детских романов, с цветами, скамейками, свиданиями, глупыми мечтами и глупыми слезами. Если раньше он мог видеть Мусю в любое время, мог засиживаться у нее до поздней ночи, – то теперь это оказывалось почему-то неудобным. Всегда выходило так, что он встречался с нею в официальных местах, в присутствии посторонних, вдруг облепивших ее со всех сторон. То она обедает вместе с Лукьяновым, то едет на прогулку с одним из безусых пажей, появившихся вдруг в довольно-таки большом количестве, то она идет в театр, а из театра ее провожает не он, а кто-то другой.
И вот – тоже по внезапному капризу – она нежно пожимает ему руку, взгляды ее наполнены любовью, она стремится быть ближе к нему, всячески подчеркивает его преимущественное среди всех остальных поклонников положение.
И вот – опять по внезапному же капризу – она дает ему каждым движением своим понять, что он только один из многих и что предпочтение, оказываемое ему, отнюдь не есть предпочтение перед этими многими.
Иногда она принимает личину добродетельной женщины старозаветного склада, боится излишних разговоров, косых взглядов провинциальных кумушек и на этом основании требует от него более редких и более коротких встреч, – иногда как-будто нарочно стремится оправдать свою репутацию свободной женщины, особенно подчеркивает особенный смысл своих отношений к Лукьянову, и даже не только к нему одному, – но и к другим лицам, но только не к Боброву.
Бобров злился, радовался, ревновал, возмущался, надеялся, – а все вместе составляло невыносимую для него тоску и постоянную тревогу.
Самое худшее во всем этом было, что посторонние люди стали замечать его состояние. Так Алафертов фамильярно спросил его:
– Ну как у тебя с Мусей? Не правда ли – славная бабенка!
И при этом так произнес последние слова, с таким выражением, точно она была всегда доступна и близка ему, только сам он, Алафертов, никогда не интересовался ею.
– Ничего, – невнятно отвечал Бобров: – только она меня теперь мало интересует. Ты сам знаешь, для чего она была нужна.
– Ой ли? – лукаво подмигивал старый друг и товарищ беспечального, как говорится, детства. И это «ой ли» переполнило Боброва бессильной злостью и ненавистью.
– Он добился, – а вот я…
Что и Алафертов, и Лукьянов, и еще кто-то – имя им легион, – все те, о которых говорила молва, действительно чего-то добились, Бобров не сомневался. Тем хуже для него, что он позволяет себя водить за нос этой женщине, этой публичной женщине, – как назвал ее когда-то Алафертов.
– Если она так, – решил он после этого разговора, – то она не дождется от меня ни звонков, ни напрашиваний. Кончено. Эта комедия мне надоела.
В тайне он надеялся, что она первая вспомнит о нем и тогда все будет по иному. Первый день после этого решения Юрий Степанович с трудом воздерживался, чтобы не подойти к телефону и не спросить, где она будет вечером, и добиться от нее приглашения. Он неоднократно брался за трубку и снова опускал ее.
Он ждал ее звонка и не дождался.
XIX
Блаженство ты – и безнадежность.
Ф. Тютчев.
Юрий Степанович просиживал вечера добровольного одиночества в комнате, помещавшейся в том же театре, где и контора, близ молчаливой по ночам канцелярии, хранившей только в рассыпанных тут и там бумагах следы оживленной дневной работы, занимаясь неконченными в течение дня делами да своими собственными мыслями, то-и-дело уносившими его в уютную неуплотненную квартиру Муси. Только часу в двенадцатом выходил он на улицу, полную свежего весеннего теплого воздуха, и бродил в отдаленных от центра местах, где уж наверное не мог встретиться с Мусей и где наверное, ничто не могло помешать одинокой прогулке задумавшегося пешехода. О чем задумавшегося? О своем близком уже теперь к выполнению плане, о славе, которая ожидает его, о Мусе, затеявшей опасную игру, а, может быть, о том времени, когда не было ни плана, ни славы, ни Муси, ни опасной игры.
В одну из таких прогулок, выйдя из задумчивости, он увидел: белую церковь с высокой колокольней, решетку, сквозь которую видны желтые подметенные тропинки, зелень, памятники и кресты, улицу без тротуара, заросшую травой и низкими деревянными домиками, с неизменными цветами на окнах, может быть, только один из этих домиков с вывеской «сапожный мастер». Что именно он заметил – важно ли это? – только вдруг он остановился в недоумении, как человек, попавший не туда, куда шел, и еще больше, – как человек, наткнувшийся вдруг на непреодолимое препятствие.