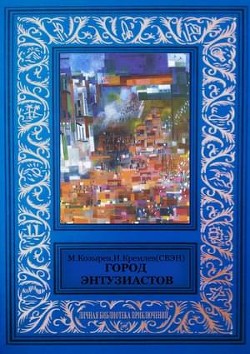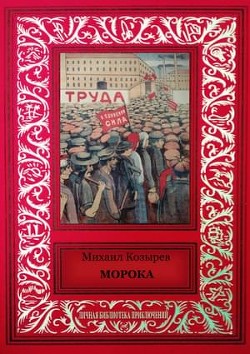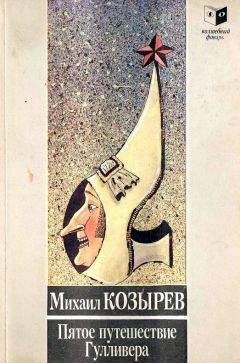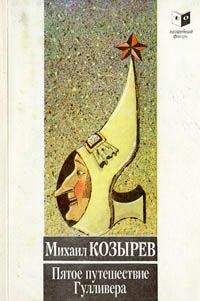– Может быть, Муся, – вспомнил Бобров, когда улица привела его в густые аллеи общественного сада, связанные с воспоминаниями о первой полудетской любви…
– Да, может помочь только одна Муся. Значит – все рассказать ей. Может быть, давно надо бы поделиться с ней своими опасениями, страхами и неудачами…
Выбирая путь покороче, он направился к Мусе, но не дойдя еще до ее дома, увидел, высокую фигуру молодого человека в белом кителе: человек этот вышел из того дома, где жила Муся, бросил взгляд в сторону Боброва и, вероятно, заметил и узнал Юрия Степановича, ибо слишком поспешно пошел в противоположенном направлении и поспешно же скрылся в переулке.
– Алафертов. Он был здесь. Зачем? Ведь он никогда не заходил прежде.
Смутная, неопределенная догадка:
– Значит – все это – дело его рук?
Может быть, подождать, зайти потом. Чего ждать? День, час, минута – неизвестно, когда подстережет его враг и обрушит карающую, мстительную руку.
– Терять теперь нечего.
Он смело поднялся по лестнице – несколько замедлил шаги на последних ступеньках, долго топтался у двери, рассматривая визитную карточку Муси, прилаженную ржавыми кнопками, и неуверенно прикоснулся к звонку.
Муся даже не встала из-за стола. Муся даже не улыбнулась. Она холодно протянула ему руку, холодно спросила:
– Что нового?
Бобров несколько минут стоял у ее стола, не решаясь сказать ни слова. Муся тоже молчала и за эти несколько минут ни разу не взглянула на Боброва.
– Ну, что же. Я пойду. Ты занята, – наконец, проговорил он, и подал ей руку.
Муся не выдержала характера. Может быть, его рука, крепко сжавшая ее пальцы, может быть, вопросительный и прибитый последний взгляд Боброва заставил ее вместо того, чтобы холодно сказать:
– Прощайте…
почти истерически выкрикнуть:
– Вы торопитесь к вашей жене и ребенку… Не оправдывайтесь, я все знаю… И не только это… Зачем ты обманывал меня?
И спрятала сухие неплачущие глаза в маленькие ладони.
Бобров должен был понять, что оставаться здесь он не имеет права.
Из конторы, закончив трудовой день, выходили многочисленные служащие. Весело улыбающиеся барышни, обрадованные тем, что кончился день нелюбимой работы, ответственные и безответственные, с портфелями и без портфелей, выходили из подъезда конторы шумной говорливой толпой. Похоже было на театральный разъезд: и все приветствуют Боброва, кто поклоном, кто улыбкой, кто дружеским рукопожатием, приветствуют его, как актера, исполняющего главную роль в пьесе, которая вот уже несколько месяцев не сходит с репертуара. Не прощальные ли это приветствия, не прощальные ли это улыбки?
Бобров прошел через опустевший зал в кабинет, запер дверь на ключ, чтобы на свободе обдумать свое положение, но судьба и в этом уединении не хотела щадить его. На письменном столе ожидала его предусмотрительно развернутая кем-то повестка, которая приглашала Юрия Степановича на заседание президиума губисполкома, собиравшегося рассматривать вопрос о постройке и в частности – о пресловутом кирпиче.
XXIII
Завтра – казнь…
А. Пушкин.
Боброву теперь стало ясно, что таинственная рука, направлявшая кампанию против него, принадлежа Алафертову, и ясен был план Алафертова: компрометировать его безответственными обвинениями, распространяемыми в форме слухов и газетных заметок, подорвать тем самым его авторитет, шантажировать пресловутым кирпичом, а затем, когда ответственные и имеющие власть лица, а в особенности товарищ Лукьянов, склонны будут не доверять Боброву, – отрезать ему все пути отступления, поссорив с Мусей. А завтра, может быть, президиум губисполкома постановит, в виду отсутствия каких-либо против него серьезных улик, дать ему месячный отпуск, а, может быть, даже новое назначение, чтобы затем постепенно оттереть на задний план, лишив таким образом не только будущих, но и всех его прежних заслуг.
Как трудно было вознестись на вершину, так просто с этой вершины упасть: что скажет эн завтра? Разве помогут его слова и оправдания, когда уже заранее нет веры ни его словам, ни его оправданиям? Каждый его ответ может быть высмеян, каждое его предложение может быть отвергнуто. Не важнее ли, чтобы кто-то на этом совещании поддержал своим авторитетом пошатнувшийся авторитет блестящего строителя, чтобы кто-то своим доверием заставил замолчать недоверчивых и скептиков.
Значит – надо помириться с Мусей. Здесь может помочь только она. Но что наговорил ей Алафертов? Жена и ребенок? Какие пустяки! Она знает отлично, что если это и правда, он бросит их по одному ее слову. Алафертов мог сказать и, вероятно, сказал другое. Разве он, Бобров, ни разу не проговорился, что смотрит на Мусю, как на средство для каких-то своих целей, что он обманул Мусю с первых же слов, что он и теперь продолжает обманывать ее каждым своим словом, каждой своей улыбкой, каждым рукопожатием.
– А ведь женщина всегда ищет только любви, – вспомнил он слова архитектора. – Даже когда не любит сама, – мог бы добавить он к этому изречению.
Медлить и раздумывать некогда. Если нельзя прийти к Мусе и лично оправдаться перед ней, если того, что он хочет сказать, нельзя доверить телефону – надо написать письмо и ждать ответа.
Ведь он дал слово верить ей – почему она не может один раз поверить ему?
Письмо было написано. Юрий Степанович вышел из своей комнаты в пустую вечернюю канцелярию. В темноте молчаливый огромный зал, наполненный столами, машинками, настольными лампами, казался чудовищем, в молчании которого чувствовалось нечто угрожающее. Оно шевелится это чудовище – вот-вот зашелестят брошенные на пол листы бумаги, вот-вот сами собой затрещат умолкшие машинки. Уже началось: раздаются чьи-то тихие покамест шаги. Надо крикнуть курьера – но как раздастся голос в этой угрожающей тишине?
– Юрий Степаныч, я к вам.
Призрак это или живой человек? В темноте, вдвое увеличенная этой темнотой высокая человеческая фигура, мягкий вкрадчивый голос.
– Это вы, Галактион Анемподистович? Что так поздно?
Щелкнул выключатель – вспыхнувший тотчас же свет убрал зловещие тени, столы стали просто столами, машинки – просто машинками с небрежно надетыми на них чехлами, бумаги на полу – просто бумагами, брошенными за ненадобностью, чтобы не загромождать столов, высокая, чудовищно высокая фигура – просто архитектором, поднятая вверх голова которого и смеющиеся узкие глаза говорили о его радостном, возбужденном настроении.
– Откуда вы?
– Работаем!.. Да и вы, я вижу, не спите… Имею кое-что сообщить…
– Погодите, я только письмо пошлю…
– Кому письмо? – Галактион Анемподистович мельком взглянул на адрес – успеет, вы сначала послушайте… Кирпичный завод через три дня работать начнет. Поняли? А я виниться пришел, – добавил он, самодовольно поглаживая широкую бороду – знаете, через кого я это делишко обтяпал?
– Ну?
– Через Палладия Ефимовича.
– Опять?
– Это уж в последний раз. Головой вам ручаюсь. Надо же человека до конца использовать – а вину на себя беру, каюсь…
– Как же все-таки. Ведь это невероятная вещь.
– Для нас, Юрий Степанович, для нас, а не для него. Вот если мы пойдем в совнархоз, да нам ответят «приходите завтра», да если мы выпишем оборудование из центра, или из-за границы, да будем просить разрешений или еще там чего – конечно, невероятное дело. А для него это просто, покамест. Он тут с малых лет мотается и знает, что где лежит. Работали же тут мелкие кустари? Работали. Припрятали кое-что? Конечно припрятали. Нам с вами не скажут, а он найдет. Прихожу к нему, рассказываю свой план. – Это, говорит, можно. Поскреб свою плешь, книжечку достал и все вспомнил. Прямо с хозяевами завод купим – они у нас и работать будут. Только дорого за это дело он требует…
– Отдать, сколько захочет…
– Зачем же зря. Поторгуемся. Это он для последнего раза запросил – а ведь власть-то у нас. Мы в случаи чего и припугнуть можем. А это что у вас, – обратился Галактион Анемподистович внимание на повестку, так и оставшуюся лежать на столе. – Эге-ге. Тут дело-то, выходит, серьезное…