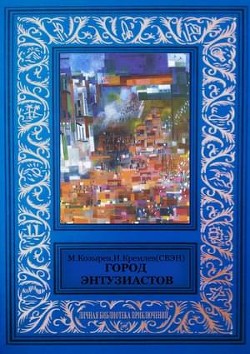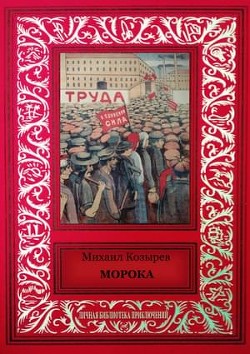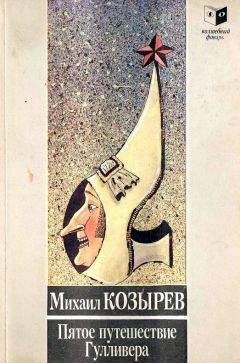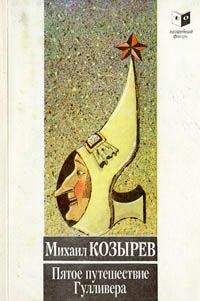– Против меня целая камлания, – объяснил Бобров. – И знаете кто? Алафертов.
– Ну вот. А что я вам говорил? Письмецо-то не по этому ли поводу посылаете? Что у вас с ней вышло?
Скрывать от архитектора было нечего.
– Я решил поговорить с Лукьяновым на чистоту. Пусть как хочет, может отдать под суд, а мне надоело. Вы как думаете? Прямо-то лучше…
– Ну еще бы, – уклончиво ответил архитектор и ехидно улыбнулся. – Поговорить надо с председателем губисполкома – а Письмецо к кому? Так, так… Прекрасно…
– В последний раз – ответил Бобров. Он похож был в эту минуту на уличенного в шалости школьника, оправдывающегося перед заставшим его на месте преступления учителем.
– А потом, – продолжал иронизировать архитектор, Анемподист – прямым путем. Так что ли?
– Прямым путем – не значит переть на рожон, – нашел Бобров нужное оправдание.
– Ну ладно, ладно… Оказываете успехи. Хвалю…
Учитель утешал нашалившего ученика, у которого, несмотря на утешения, больно горели уши.
– Посылайте письмо-то, что же. А мне, может быть, разрешите остаться, пока она вас не позовет.
– А если не позовет?
– Что вы?
Письмо отправлено. Юрий Степанович ждет ровно столько времени, сколько требуется, чтобы письмо дошло. Он ждет еще десять минут, – на всякий случай. Он ждет еще пятнадцать минут.
– Неужели она не ответит? Что тогда?
– Ответит.
Галактион Анемподистович с улыбкой наблюдал непонятное ему волнение Боброва.
– Да она из одного любопытства вас пригласит. Плохо вы их знаете.
Бобров не разделял оптимизма архитектора. Он молча ходил из угла в угол, отсчитывая шаги. Каждый шаг – секунда. Взад и вперед – полминуты.
– Нет, не ответит. Может быть, ее нет дома.
– Терпение, терпение…
Галактион Анемподистович смотрел на Боброва, и маленькие его глазки лукаво посмеивались. Молчание. Мерные шаги по кабинету. Один шаг – да. Другой шаг – нет. Если дойти до стены и у стены будет – да, значит да.
– Нет.
Еще раз – это неверно. Надо до трех раз.
И вдруг – стол прорвался гулким прыгающим звонком телефона. Бобров взял трубку – дрожащей рукой, приложил трубку к уху не тем концом. Поспешно переложил трубку в другую руку – но трубка не слушалась и прыгала в его руках.
Неуверенно, тихо:
– Слушаю…
И в ответ – серьезный, словно бы не Мусин голос, надутый, неласковый, чужой.
– Приходи. Жду.
«Она наверное в черном платье, – подумал Бобров – к этому голосу так идет черное наглухо застегнутое платье, поджатые губы и задумавшееся, пожалуй некрасивое лицо».
– Что я говорил, – торжествующе сказал архитектор. – Кто оказался прав? Я, как всегда. Да вы не очень-то торопитесь – успеете. А я пока здесь посижу – ладно. Разрешите мне вашим телефоном воспользоваться…
– С кем вы хотите говорить?
Галактион Анемподистович поднял бороду вверх и весь наполнился беззвучным лукавым смехом.
– А вам-то что? Может быть, даже с тем, с кем вы только-что говорили…
* * *
Муся была не в черном платье, губы ее не были поджаты, и лицо вовсе не выглядело ни задумавшимся ни опечаленным. Напротив, оно улыбалось и цвело, как ромашка. Что означает эта внезапная перемена? Надолго ли? Может быть, очередная хитрость… Но нет, не похоже…
Муся забралась с ногами на диван, усадила его рядом с собою и, закрыв глаза, выразила тем желание слушать без конца.
– Ну что же? Рассказывай…
Но не дала ему сказать и двух слов.
– У вас ведь прекрасно дела идут, да? Мне сейчас архитектор звонил, все рассказал. Ты не говоришь, так я от других могу узнать…
Муся отвернулась, и ее губы выразили легкую скоропреходящую обиду.
– Веселый такой… Я и не знала, что он у вас такой чудак… Знаешь что? Он женится…
Муся расхохоталась громким взрывчатым смехом.
– Кто? – удивился Юрий Степанович.
– Да он же, Галактион Анемподистович. Я, говорит, хоть сейчас готов, да с невестой не могу поладить. Я хочу в церковь, а она, представьте себе, – комсомолка. А не хочет, говорит, так я и один в церковь пойду. Нельзя же ее силком заставить…
Эта новость оказалась неожиданной для Боброва.
– Он мне ничего не говорил. Может быть, шутит.
– Что ты? Так подробно описал – как будто я сама видела. Шатенка, глаза зеленые, ходит в мужской рубашке… Ну что у тебя – рассказывай…
– Ах, знаю, знаю… Алафертов. Вот не ждала – такой милый молодой человек.
Через несколько минут:
– Что ты говоришь? Растрата?..
Глаза ее стали серьезными, большими:
– Значит, виновата – я. Ты очень меня ненавидишь? Признайся, ты ненавидишь?
– За что же? Ведь я сам…
Она схватила его руку – глаза ее приблизились к его глазам:
– Значит, я для тебя дороже всего. Дороже… Ну как сказать – вообще… Ведь да?.. Верно?… Верно.
– Что ты спрашиваешь!
Муся спрыгнула с дивана и потащила за собой Юрия Степановича.
– Смотри – вот они, все твои игрушки. Видишь – с пломбами – я их и не трогала. Очень они были мне нужны… Бери их, отдай назад!
Юрий Степанович не спрашивал, почему ее глаза горели таким неподдельным восхищением, когда она принимала эти подарки, он не спрашивал, почему она прятала их в ящик и даже не трогала и ни разу не надевала их. Ей были они не нужны, – зачем же тогда…
– Теперь это уже не поможет, – грустно ответил он.
– А что же поможет? – спросила она с лукавой торжествующей улыбкой. – А кто хотел, чтобы я из-за него поссорилась со всеми и в том числе с известным ему лицом… Кто? Неужели ты до сих пор ничего, ничего не заметил? Неужели ты когда-нибудь думал, что я так глупа и наивна… Иди… Чтобы никто, никто, – она приложила палец к губам, – не узнал, что ты был здесь.
Ведь все это касается теперь только меня. Ты понял? Веришь?
* * *
Алафертов предполагал, что дело уже сделано, что настала минута выступить открыто и открыто свалить блестящего строителя, блеск которого ныне уже потускнел, который ныне обратился из смелого революционера только в ловкого авантюриста. Он пришел на правах старого знакомого к председателю губисполкома, надеясь нанести здесь последний удар своему противнику.
– В чем дело? – спросил председатель. Его усталое, несколько ожиревшее лицо не выражало ничего, кроме обычного равнодушия.
– Да, я вас помню, как же, мы знакомы.
Алафертов повторил все известные уже нам сплетни о Боброве, о жемчужном ожерелье, стараясь не называть Мусю по имени, о растраченном авансе, о подрядчике с галантерейной фамилией. Председатель в это время внимательно разглядывал лежавший перед ним блокнот и изредка улыбался. Что он видел на белом листе бумаги – лукавые глазки Муси или, может быть, новый город с широкими прямыми проспектами…
– А у вас есть доказательства?
Председатель поднял теперь уже серьезные глаза и остановил их на Алафертова.
Алафертов полагал, что после всего сказанного никаких доказательств не требуется, и молчал. Председатель тоже молчал, продолжая смотреть в глаза Алафертову, который все ниже и ниже опускал голову.
– Мне все известно, – сказал он, наконец. – Вы говорите – украли? А если тебя туда посадить, – неожиданно перешел он на ты, – ты еще больше украдешь! До свиданья.
Алафертов вышел из кабинета.
Заседание президиума прошло гладко. Правда, Ерофеев посмеивался в широкую свою бороду, гляди на Боброва, правда, каждое заявление Боброва принималось с осторожностью и взвешивалось с исключительной серьезностью, правда, что ничего приятельского, дружественного в отношении Боброва никто не проявил, но в общем, его деятельность была одобрена, а самое главное – он оставался на своем месте.
Что повлияло на такое решение? Незначительность ли тех упущений, которые были допущены Бобровым, личная ли симпатия председателя губисполкома к молодому строителю или нежелание в самый разгар нарушать начатую работу. Возможно, что одинаково повлияли все эти причины.