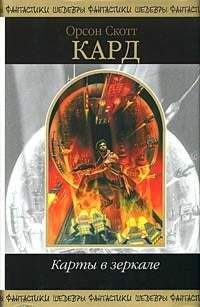Орсон Скотт Кард
Певчая Птица Микала
Дверная ручка повернулась. Наверняка принесли обед.
Ансет шевельнулся на жесткой постели, чувствуя, как ноет все тело. Режущее ощущение вины не отпускало его, но он привычно постарался не обращать на него внимания. Однако на сей раз явился не Хрипун с подносом — вошел тот, кого звали Мастером, хотя Ансет подозревал, что это не настоящее его имя. Мастер был страшно силен и вечно зол, и ему одному из немногих удавалось заставить Ансета почувствовать себя одиннадцатилетним мальчиком, каким тот на самом деле и являлся.
— Вставай, Певчая Птичка.
Ансет медленно поднялся. В тюрьме его раздели донага, и лишь гордость помешала ему отвернуться, когда суровые глаза оглядели его с ног до головы. Чувство вины сменилось чувством стыда, щеки его запылали.
— Тебя ждет прощальный праздник, Воробей, — сказал Мастер. — Почирикай для нас!
Ансет покачал головой.
— Если ты можешь петь для этого ублюдка Микала, то уж для честных граждан и подавно.
Глаза Ансета гневно полыхнули.
— Следи за своим языком, предатель, ты говоришь о своем императоре!
Мастер шагнул к нему, угрожающе занеся руку.
— Мне было приказано не оставлять на твоем теле рубцов, Воробей, но я все равно смогу сделать тебе больно — если не будешь выбирать слова, разговаривая со свободным человеком. А сейчас ты для нас споешь.
Испугавшись жестокого Мастера так, как может испугаться лишь человек, которого никогда в жизни не били, Ансет кивнул, но тут же попятился.
— Могу я попросить? Пожалуйста, верни мне одежду.
— Там, куда мы идем, не холодно.
— Я никогда еще не пел вот так, — смущенно сказал Ансет. — Раздетым.
Во взгляде Мастера вспыхнуло вожделение.
— А что же ты тогда делал, подстилка Микала? У вас с ним были свои секреты, а? Что же, это можно понять.
Ансет понял не до конца, но ясно почувствовал вожделение Мастера и сгорал от стыда, идя вслед за ним по темному коридору. По дороге он спрашивал себя, почему праздник будет «прощальным»? Его отпускают на свободу? Может, кто-то заплатил за него выкуп? Или его сейчас убьют?
Деревянный пол слегка покачивался под ногами; Ансет давно уже решил, что его держат на корабле. Вокруг было столько настоящего дерева, что в доме какого-нибудь богатого человека оно выглядело бы безвкусным и претенциозным, но здесь дерево казалось всего лишь убогим.
Сверху доносились птичьи крики и несмолкающий гул — Ансет думал, что это ветер гудит в такелаже. Иногда мальчик подхватывал этот звук и начинал напевать в унисон.
Наконец Мастер открыл дверь и с шутовским поклоном предложил Ансету войти. Тот остановился в дверном проеме.
Вокруг большого стола сидели человек двадцать, некоторых из них он уже видел раньше. Все они были в странных костюмах земных варваров, и Ансет невольно вспомнил, как смеялся Микал всякий раз, когда такие люди появлялись при дворе. Те, кто называли себя наследниками великой цивилизации и привыкли мыслить в масштабах галактики, считали этих варваров мелкими и ничтожными. Но сейчас, глядя в жесткие лица и неулыбчивые глаза, Ансет чувствовал, что это он жалок и ничтожен — просто голый ребенок с нежной кожей придворного, робкий и испуганный. А эти люди держали в своих грубых руках силу множества миров.
Все они бросали на него такие же любопытные, многозначительные, похотливые взгляды, каким недавно смерил его Мастер. Ансет заставил себя расслабиться, чтобы сладить с эмоциями, как учили его в Доме Пения, когда ему не было еще и трех лет. А потом вошел в комнату.
— На стол его! — приказал сзади Мастер.
Кто-то подхватил Ансета и поставил на деревянный стол, залитый вином и заваленный объедками.
— А теперь пой, маленький ублюдок!
Все взгляды ощупывали его обнаженное тело, и Ансет едва не расплакался. Однако он был Певчей Птицей, и, как считали многие, лучшей из лучших. Даром, что ли, Микал привез его с другого конца галактики в свою новую столицу на Земле? И если Ансет пел, он пел хорошо, кто бы его ни слушал.
Поэтому мальчик закрыл глаза, глубоко вдохнул и издал низкий горловой звук. Сначала он пел без слов, очень низко, хотя знал, что такие звуки трудно уловить.
— Громче! — закричал кто-то, но он не обратил внимания на приказ.
Постепенно шутки и смех смолкли; все напряженно вслушивались в пение.
Замысловатая мелодия легко и изящно перетекала из одной тональности в другую, то нарастая, то затихая. Ансет все еще пел очень низко, бессознательно делая руками причудливые жесты, как будто аккомпанируя пению. Он сам не сознавал, что так поступает, пока однажды не прочел в газете: «Слушать Певчую Птицу Микала — райское блаженство, но видеть танец его рук во время пения — нирвана». Тот, кто написал эти строки, отозвался так о любимце Микала с дальним прицелом, тем более что журналист жил в столице, но никто и никогда даже с глазу на глаз не обсуждал этот комментарий.
Потом к мелодии Ансета добавились слова. Он пел о своем плене, и песня поднялась выше, на мягких верхних нотах, заставлявших трепетать его горло, напрягаться мышцы затылка и бедер. Рулады то поднимались терциями вверх, то опускались — техника, доступная лишь немногим Певчим Птицам, — и песня рассказывала о мрачных, позорных вечерах в грязной камере, о страстной тоске по добрым глазам Отца Микала (не по имени, Ансет не называл его по имени перед этими варварами); а еще о мечтах мальчика о широких лужайках, протянувшихся от дворца до реки Саскуэханны, и о потерянных, забытых, стертых из памяти днях, которые потянулись после того, как он очутился в деревянной клетке.
И еще он пел о своей вине.
Наконец Ансет начал уставать и почти перешел на шепот. Он закончил песню резкой, диссонирующей нотой, которая растворилась в тишине, сделавшейся частью песни.
Ансет открыл глаза. Многие плакали, все не сводили с него глаз. Никто не хотел разрушать очарования момента, пока наконец какой-то юнец не произнес с сильным акцентом:
— Ах, я никогда не слышал ничего прекраснее!
Его слова были встречены утвердительными вздохами и смешками, и в устремленных на Ансета взглядах больше не было похоти, а были только нежность и доброта. Ансет никак не ожидал увидеть такое выражение на этих грубых лицах.
— Хочешь вина, мальчик? — спросил за его спиной Мастер, и Хрипун наполнил чашу.
Ансет сделал маленький глоток и, окунув в жидкость палец, стряхнул с него каплю грациозным привычным жестом придворного.
— Спасибо. — Он вернул металлическую чашу так, как вернул бы бокал, поданный ему при дворе.