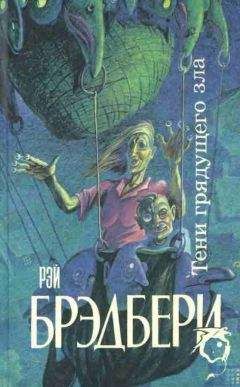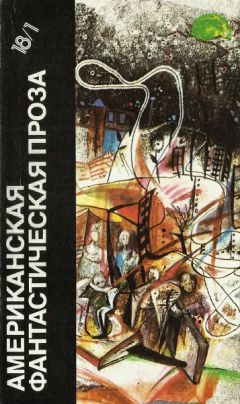Уилл сел в постели.
В доме через дорогу, повторив то же движение, как в зеркале, сел Джим.
И тут заиграл паровой орган-каллиопа, совсем тихо, словно за миллион миль отсюда.
Уилл бросился к окну и выглянул из него, то же самое сделал Джим. Не говоря ни слова, они пристально смотрели поверх деревьев, кроны которых шумели как прибой.
Их комнаты были на самом верху, как и полагается комнатам мальчишек. Отсюда из своих окон они могли вести взглядами прицельный огонь на дистанции, доступные разве что артиллерии, они стреляли глазами дальше библиотеки, мимо городского выставочного зала, дальше складов, коровников, полей фермеров, туда, где расстилались пустынные прерии!
Там, на краю земли, манящая улитка железнодорожных путей уползала в даль, оставляя позади неистовые подмигивания лимонных или вишневых семафоров, обращенных к звездам.
Там, у пропасти, где кончается земное пространство, поднималась тонкая как перо струйка пара, подобная первому облачку грядущей грозы.
Вот появился и сам поезд — звено за звеном: локомотив, тендер, а затем пронумерованные, крепко-спящие, полностью заполненные сном вагоны, которые следовали за мерцающей, как светлячок, монотонно отстукивающей свою песню молотилкой на колесах, навевающей осеннюю дремоту даже самим ревом огня в топке. Ее адские огни заставили зардеться оглушенные грохотом холмы. Даже отсюда, издалека, казалось, что там у топки люди с бицепсами, как ляжки буйволов, сгребают огарки метеоров и бросают их в топку локомотива.
Паровоз!
Оба мальчика исчезли, вернулись и подняли свои бинокли.
— Паровоз!
Времен Гражданской войны! Такой трубы не было с 1900 года!
— И все остальное такое же старое!
— Флаги! Зверинец! Это карнавал!
Они прислушались. Сначала Уилл подумал, что слышит свое учащенное дыхание. Но нет — это доносилось с поезда, где рыдал паровой орган-каллиопа.
— Похоже на церковную музыку!
— Черта с два! Зачем карнавалу церковная музыка?
— Не поминай черта, — зашипел Уилл.
— Черт побери. — Джим раздраженно выглянул из окна. — Я весь день сдерживался. Все спят, никто не слышит — черт возьми!
Музыка проплывала мимо их окон. Гусиная кожа, проступившая от утреннего холода на руках Уилла, грозила превратиться в фурункулы.
— Это и есть церковная музыка. Только измененная.
— От этой болтовни я замерз, давай-ка лучше сбегаем туда и посмотрим, как они устраиваются!
— В три часа утра?
— В три часа утра!
Джим исчез.
Через секунду уже было видно, как он кружится за окном, натягивая рубашку; а тем временем мрачный поезд исчезал в ночной мгле, пыхтя и раскачиваясь, волоча за собой окутанные черным дымом вагоны, клетки цвета лакрицы и смутные звуки органа-каллиопы, наигрывавшего сразу три гимна, которые перепутывались, исчезали, а может не звучали и вовсе.
— Ничего не видно!
Джим соскользнул по водосточной трубе на лужайку.
— Джим! Погоди!
Уилл, путаясь в одежде, наконец-то собрался.
— Джим, не уходи один!
И побежал следом.
12Иной раз видишь, как бумажный змей парит так высоко и свободно, что кажется, он знает воздушные течения. Он летит куда захочет, затем выбирает место, которое ему нравится, именно это, а не другое, и ничего не значит, что вы дергаете за бечевку (он при желании просто разорвет ее); садится отдыхать, где ему вздумается, или тащит вас за собой злого и раздраженного.
— Джим! Подожди меня!
Джим сейчас и был таким вот бумажным змеем с отрезанным шнуром: он по собственному соображению уносился от Уилла, который только и мог, что бежать по земле за ним, ставшим вдруг таким странным и неузнаваемым, летящим высоко в безмолвной тьме.
— Джим, я здесь!
И, догоняя друга, Уилл думал: что ж, так было всегда, все давно известно. Я разговариваю. Джим бежит. Я выворачиваю камни. Джим выхватывает из-под камней всякую дрянь. Я взбираюсь на холмы. Джим кричит с колоколен. Я получил банковский счет. Джим получил копну волос, уменье кричать, рубашку на плечи, теннисные туфли на ноги. Почему я решил, что он богаче? Наверное, потому, думал Уилл, что я сижу на камне и греюсь на солнце, а старина Джим чувствует, как волоски на руках шевелятся от лунного света, и пляшет вместе с жабами. Я пасу коров. Джим приручает ядозуба. «Дурак!» — Кричу я Джиму. «Трус!» — Отвечает он мне. Вот так мы и живем!
При свете луны, взошедшей над холмами и высветившей росу на лугах, они выскочили из города, миновали поля, выбежали к железной дороге, спрятались и замерли под мостом.
Бам!
Карнавальный поезд загромыхал по мосту. Орган-каллиопа застенал и заплакал.
Джим уставился наверх:
— Там нет органиста!
— Не валяй дурака, Джим!
— Клянусь честью матери! Смотри!
Проносясь мимо, трубы органа сверкали под звездами, и действительно, никто не сидел за высоким пультом. Ветер вдувал в трубы ледяной от росы воздух, и возникала музыка.
Друзья побежали. Поезд скрылся за поворотом, раскачивая погребальный колокол, позеленевший и замшелый, словно поднятый со дна моря, и звонящий, звонящий. Затем паровоз свистнул, выпустил огромную струю пара, и Уилл вынырнул из-под нее, усыпанный жемчужными крупинками льда.
Поздними ночами Уилл слышал — часто ли, нет? — как поезда свистят в пути, выпуская вдоль края сна струю пара, тонкую и далекую, даже если они проходили близко. Иногда он просыпался и, чувствуя слезы на щеке, спрашивал себя, почему плачет: поворачивался в постели, прислушивался и думал: это они заставили меня плакать, уходя на восток, отправляясь на запад, эти поезда, скрывающиеся среди просторов страны, они тонут в потоках снов, льющихся из городов.
Поезда эти и их печальные звуки навсегда потерялись между станциями, они не помнят, где были, не знают, где могли побывать, испуская за горизонтом свои последние слабые вздохи. Так было всегда со всеми поездами.
Но этот свисток!
Стенания всей жизни были собраны в нем из других ночей, дремавших в других годах; подвывание дремлющих ври луне собак, просачивание через стекла веранд январских ветров, несущих речной холод, от которого кровь стынет в жилах; плач тысячи тревожных сирен; или еще хуже! — обрывки дыхания, стоны протеста миллиарда людей, умерших или умирающих, но не желающих быть мертвыми, их стоны и вздохи, вырывающиеся из-под земли!
Слезы навернулись на глаза Уилла. Он опустил голову, встал на одно колено и притворился, что зашнуровывает ботинок.
Но потом он заметил, что Джим зажал уши и глаза руками, и глаза его тоже мокры от слез. Паровоз вопил. И Джим вопил, стараясь перекричать этот вопль. Свисток визжал. И Уилл визжал, пытаясь перекрыть этот визг.