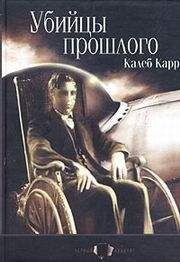— Значит, Прайс сфабриковал эти кадры для вас — именно вы и были тем "частным клиентом", о котором мне рассказала его жена.
— Опять в точку, доктор. Никто из нас не желал смерти мистеру Прайсу, но он пытался нас шантажировать, а когда Лариса и Иона встретились с ним, чтобы предупредить его от неверного шага, набросился на них. Швырнул Иону со всего размаху об стену и наделал бы дел, если бы… если бы Лариса…
Кусочки головоломки, окружавшей двойное убийство Джона Прайса и Макса, начинали складываться в единый узор, но я все еще не понимал, что за цель была у Трессальяна. И я задал ему прямой вопрос.
— У меня есть на то причины, — ответил он, вновь вздохнув, на этот раз глубже, и неожиданно передернулся всем телом. — У меня есть…
Но тут глаза Трессальяна широко раскрылись, и его скрутил новый приступ боли.
— Вам… простите меня, доктор, мне кажется…
Он вдруг обхватил руками голову и упал с приглушенным криком. Полковник Слейтон оказался рядом с ним прежде, чем я успел что-либо понять.
— Мне кажется… полковник, мне надо немного отдохнуть, — с трудом проговорил Трессальян сквозь сжатые зубы. — Надеюсь, наш гость извинит меня…
Он тяжело дышал; Слейтон закинул руку Трессальяна себе на шею и поднял его искалеченное тело как пушинку.
— Простите меня, доктор, — задыхаясь вымолвил тот, — я знаю, что вы хотите получить ответ на свои вопросы. Вечером, мы поговорим вечером, за ужином… А сейчас — вспомните…
С неимоверным усилием он поднял голову и, преодолевая мучения, взглянул на меня. Я никогда не забуду этот взгляд: он был полон непокорства, но, в отличие от сестры, в Трессильяне чувствовалась темная, внушающая страх сила.
— Вспомните, — продолжал он, — надпись, что вы видели на двери…
И, увлекаемый Слейтоном, он исчез за дверью.
Внезапный приступ у Трессальяна, передвижения войск на экранах, кипевшая снаружи битва — не говоря уже о том, что я остался один — все это обратило мою тревогу в настоящую панику. Я попытался успокоиться, сосредоточившись на последней фразе Трессальяна и вспоминая обрывки латыни, которую я учил так давно, чтобы разгадать наконец загадку таинственной надписи.
Не знаю, как долго я стоял, созерцая, как Лариса расправляется с нашими преследователями, и бормоча, как идиот: "Mundus vult decipi". Эти слова я повторял вновь и вновь, уставясь на потоки пуль и снарядов, расчерчивающих пространство вокруг корабля. "Mundus — это мир, так-так. Vult — хочет? желает? Хочет чего?"
Пространство взрезал пульсирующий звук корабельной сирены. Я замер на месте. Звук был не так уж резок, но его хватило, чтобы понять: происходит нечто очень важное. Я обвел взглядом горизонт, пытаясь увидеть, что же случилось, и тут же увидел ответ.
Прямо перед нами расстилалась бескрайняя ширь Атлантического океана.
Я резко обернулся: за моей спиной неожиданно раздался голос, усиленный и искаженный корабельной системой громкой связи, но несомненно принадлежавший Жюльену Фуше:
— Тридцать секунд до перехода… двадцать пять… двадцать…
Мы приближались к кромке воды, не снижая скорости. Фуше продолжал с пятисекундными интервалами свой обратный отсчет до «перехода», что бы это ни значило, и тут меня пробил озноб понимания: подстегнутый нарастающим ужасом, я сумел перевести надпись на двери.
— Mundus vult decipi, — сказал я вслух. — "Мир хочет быть обманутым"!
Еще не осознав до конца пугающего смысла этих слов, я почувствовал было радость победы — чувство, тут же сменившееся ужасом, когда наше судно, пролетев над береговой линией, на полной скорости нырнуло в глубины открытого моря.
Как только корабль полностью ушел под воду, на его корпусе зажглись мощные прожекторы, осветившие чудовищный вид прибрежных глубин Атлантики. Мы направлялись на север, вдоль берега континента. То, что я увидел, ничуть не напоминало идиллические сцены подводной жизни, возникавшие в памяти из детских книжек и фильмов. Мы плыли в коричнево-бурой жидкости, заполненной отбросами. Все это непрерывно перемешивалось прибрежными течениями, но чище не становилось. Временами можно было определить источник загрязнения — особое отвращение вызывали обширные пространства, заполненные медицинским мусором или останками крупного рогатого скота, — но по большей части все сливалось в единую неразличимую массу.
Эти наблюдения и одинокие раздумья совершенно сломили мой дух. Я, конечно же, знал, что за годы, прошедшие с финансового кризиса 2007-го, забота об окружающей среде стала для большинства стран непозволительной роскошью, однако увидеть последствия собственными глазами — это был шок.
Казалось, что прошло немало времени, прежде чем меня проводили в мою каюту. На этот раз мной занялась не Лариса Трессальян (я решил, что она ухаживает за своим братом, пораженным загадочным недугом), а диковинный человечек, которого мне представили как доктора Леона Тарбелла. "Специалист по документам" был единственным членом команды корабля, с которым я не был прежде знаком лично или хотя бы понаслышке. Но остальные члены команды обращались с ним на равных, и это придавало ему в моих глазах определенный интерес.
— Как вам здешний интерьер? — приветливо спросил меня Тарбелл, когда мы спускались по деревянной лестнице на нижнюю палубу корабля. Его неуловимый акцент да и все его поведение отличались некой двусмысленностью: несмотря на очевидное дружелюбие, он, казалось, получал удовольствие от томившей меня тревоги.
Тарбелл вытащил из кармана пачку новых бездымных и предположительно "безопасных для здоровья" сигарет, которые американской табачной промышленности недавно пришлось выпустить на рынок под судебным и политическим давлением блока восточно-азиатских стран, и предложил мне закурить. Я отказался. Закурив, он продолжил:
— Мне все это не по вкусу, я предпочитаю современность. В ней есть минимализм, сила, атлетизм — сексуальность, наконец.
— Некоторые просто назвали бы ее уродливой, — быстро добавил я, не подумав, что Тарбелл может обидеться, но он лишь рассмеялся:
— Это верно! Современный стиль действительно может быть уродлив, — тут его пламенный взгляд стал еще более возбужденным, — уродлив и сексуален!
Вскоре я убедился, что для Тарбелла весь мир людей и вещей делился на две части: "сексуальные!" объекты, и объекты, «сексуальностью» не обладающие. Несмотря на простоту этой философии, она показалась мне столь же правомерной, как и любая другая, но была, по крайней мере, забавнее прочих, особенно если учесть энергическую комичность, с которой Леон высказывал свои утверждения. Словом, я с удовольствием посмеялся вместе с ним по дороге к моей каюте, немного сбросив владевшее мной напряжение.