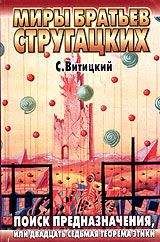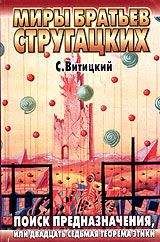Ты мне все это говорил уже, напомнил Виконт…
Да, да. Я и не претендую на новизну. Ты, между прочим, тоже постоянно повторяешься…
Я не повторяю-СЯ. Я цитирую. Я люблю цитировать. Это гораздо безопаснее…
Хорошо, хорошо. Я только пытаюсь тебе как следует объяснить свой основной принцип… Конечно, этот так называемый Великий человек, никем он в результате не управляет, кроме кучки таких же, как и он, ничтожностей, которых властен убивать и унижать, но не властен сделать лучше — не знает, как их сделать лучше, да и не хочет он этого… Откуда же тогда, скажи, наша извечная жажда преклонения перед великой личностью? Я тебе отвечу: просто мы хотим верить, что историю можно изменить одним-единственным, но грандиозным, усилием — за одно поколение, «еще при нас». Но великие люди не меняют историю, они просто ломают нам судьбы…
И так будет всегда, до тех пор, пока они не научатся МЕНЯТЬ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКОВ…
(Кто это сказал? Виконт?..)…
Не люди спасут людей, сказал Виконт вразумляюще, а нелюди. Люди не способны на это, как не способны киты спасти китов, или даже крысы — крыс…
Суть и главная примета нашего времени, сказал Виконт, — естественность неестественного, и даже — противоестественного… Единственный способ иметь дешевую колбасу — делать ее из человечины…
Ты обратил внимание, сказал Виконт, как трудно в наших джунглях найти бюрократа: вокруг одни только жертвы бюрократизма, и ни одного бюрократа!….
Ты мне лучше скажи, на кой ляд ты держишь при себе этого Малныча? Он же идиот…
А он мне нравится. Он полезный человек. Если бы к нему в кабинет заглянул вдруг кентавр, знаешь, что бы он ему сказал? «Заходите. А лошадь оставьте в коридоре».
(Сделалось пусто и мрачно в комнате, только что такой светлой. Душно сделалось, а было так свежо. И не осталось в ней больше никого, кроме Виконта. Виконт лежал в постели, он грипповал, а Станислав пришел его навестить, сидел на полуобморочном стуле, и оба курили. Произносились слова, имеющие двойной и тройной смысл. Никто, словно бы, не хотел быть понят. Но каждый хотел высказать то, что наболело, потому что наболело — нестерпимо)…
Я вовсе не друг человечества, возразил Виконт. Я враг его врагов…
Опять цитата? Скажи, наконец, хоть что-нибудь свое…
Но зачем? Если ты хочешь понять, кто есть кто и зачем, неужели тебе небезразлично, какими словами я тебе объясню? Своими? Чужими? Вообще — на пальцах? Сапиенти сат…
Я не могу верить цитатам. Цитаты всегда лгут, потому что они, по определению, суть ПАРАПРАВДА. Они — безопасны. Если бы ты хотел быть откровенным, ты бы говорил своими словами, — корявыми, маловразумительными, может быть, но своими. Если б ты вознамерился…
Если б гимназистки по воздуху летали, все бы гимназисты — летчиками стали…
Молодец. Умница. Лихо отбрил. Как врага…
Ты все еще ТАМ, мой Стак. Ты все еще проживаешь «в той стране, о которой не загрезишь и во сне». Нет этой страны, и никогда не было. «Но всегда, и в радости, и в горе, лишь тихонечко прикрой глаза: в неспокойном, дальнем, синем море бригантина поднимает паруса…» Флибустьеры были обыкновенные уголовники, мой Стак, морская шпана, кровавая и подлая. А автор этих строчек умер самой обыкновенной страшной смертью — он был убит на войне… Ты все воображаешь, что есть где-то Рай, мой Стак, а где-то — Ад. Они не ГДЕ-ТО, они здесь, вокруг нас, и они всегда сосуществуют: мучители живут в Раю, а мученики — в Аду, и Страшный Суд давно уж состоялся, а мы этого не и заметили за хлопотами о Будущем…
Иногда мне кажется, что я тебе абсолютно не нужен, Виконт. Ты отвратительно самодостаточен — тебе никто не нужен…
Ошибаешься. Ты мне очень нужен. Я поставил на тебя. Ты — моя армия, моя ударная сила. Так что изволь соответствовать…
А разве ты не считаешь, что мое Предназначение больше, чем ты… или чем я… или чем мы оба?…
Нет. И не будем больше говорить об этом…
Виконт, я ведь только хочу разобраться… я хочу понять…
Не надо, сказал Виконт раздраженно. Не надо. Есть вещи, которые лучше знать, чем понимать. «Я вспоминаю солнце… и вотще стремлюсь забыть, что тайна некрасива». Тайна — некрасива, мой Стак. Тайна — всегда некрасива…
Он очнулся и сразу же попытался сесть, но Иван придержал его за плечо:
— Подождите. Не торопитесь… Голова закружится… — Иван говорил очень тихо и все время озирался — странными вздрагивающими движениями дикого животного, ожидающего нападения.
Он не стал спорить. Он чувствовал себя неважно. Подниматься не хотелось, хотелось перевернуться на бочок, завести глаза и подремать. Минуточек шестьсот. Он чувствовал себя не больным даже, а вконец усталым и разбитым, словно ящики грузил. Но лежать было неудобно. И почему-о было трудно и жарко дышать. И голове было жарко. И все лицо — особенно лоб и рот — стягивало что-то, да так, что кожа съеживалась, будто усыхала.
Он поднял руку и потрогал.
Волосы. Грубая незнакомая пакля под носом. Грязная сальная пакля на голове. И запахло вдруг — паклей.
— Какого черта?.. — проговорил он и попытался эту паклю сорвать… отодрать… Мерзко же, гадость какая-то, зачем? Но пакля оказалась приклеена и — основательно.
Иван перестал озираться и уставился на него. В его бешеных блестящих глазках промелькнул смех.
— Ну и видик у вас, — проговорил он, напряженно улыбаясь. — Не знал бы — ни за что не узнал бы.
— Какого черта? Зачем?
— Не знаю. По-моему, этот ваш генерал совсем сдурел от страха. Он вам параморфина закатал в капельницу. Я не уследил сначала, а потом смотрю…
— Зачем? Зачем, черт его побери?
Он все-таки сел — заставил себя — и огляделся сквозь подступившую тут же дурноту. Вокруг была сумрачная большая палата с низким потолком и рассеянным светом, попавшим сюда неизвестно откуда и неизвестно каким образом. Высокие, аккуратно застеленные кровати-каталки вдоль дальней стены. На одной из этих каталок — неподвижное тело: острый, задранный подбородок, голые ступни из-под одеяла…
Он снова попытался отодрать фальшивые свои усы, и у него снова ничего не получилось — только слезы из глаз брызнули. На сон все это похоже уже не было, на бред — тем более. Это было похоже на абсурдистскую пьесу, какую ему всегда хотелось написать. Сейчас вот откроется дверь, и войдет средневековый рыцарь в валенках с калошами… Все было до такой степени нелепо, что даже страх куда-то испарился. «Нет страха, ибо абсурдно»…
Впрочем, страх был. Он просто еще не проснулся окончательно. Он пока еще оставался там — в бараке с развешанным мокрым бельем, где было понято нечто более страшное, нежели абсурдность жизни.
— Который час?