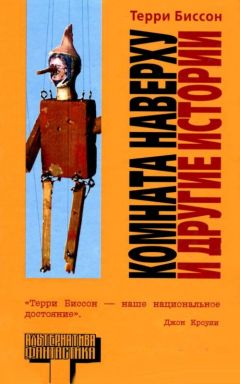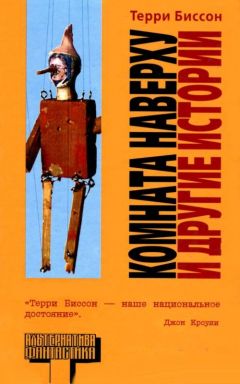Пустыри здесь, в Алабаме, даже в деловом центре Хантсвилла, где я живу и работаю (если, конечно, учебу можно назвать работой и если то, чем я занимаюсь, можно назвать учебой), похожи на миниатюрные памятники гиббоновой истории падения Римской империи с ее сбежавшими из огородов одичавшими овощами и выродившимся декоративным кустарником. Щавель и марь, чертополох, тростник, камыш, жимолость, полынь и глициния, в которой прячется искореженная тележка зеленщика или проржавевшая коробка передач, а иногда и собачий труп, древний матрас с вылезшими пружинами, наполненная черной водой старая шина — все это скорее привлекает, чем отталкивает, — этакий декоративный мазок, который лишь подчеркивает совершенство флоры. В Бруклине вам и в голову не придет срезать дорогу через такой пустырь, разве что возникнут уж совсем срочные обстоятельства. В Алабаме я каждый день сокращаю себе путь через один и тот же пустырь по дороге из юридической конторы Виппера Вилла, где провожу ночь и занимаюсь, готовясь к адвокатской карьере, в принадлежащую Хоппи станцию техобслуживания «Добрая гавань» — у меня есть собственный ключ от тамошней туалетной комнаты. На самом-деле я, пожалуй, даже жду этого краткого путешествия по тропе сквозь сорные заросли, ведь оно для меня — единственное регулярное свидание с природой. Или может, стоит сказать «с Природой»?
Ну и разумеется, Ностальгия.
Там на пустыре среди другой рухляди валялось наборное сиденье из деревянных бусин; такие в свое время (в восьмидесятых) любили нью-йоркские таксисты, особенно выходцы из Пакистана. Кое-где их и сейчас еще можно увидеть. То сиденье, что валялось на пустыре, знавало лучшие времена. Теперь от него осталось только с полсотни крупных деревянных бусин, нанизанных на перекрученную неопреновую леску в некоем грубом подобии орнамента, еще сохранявшего форму сиденья, по крайней мере настолько, чтобы узнать его, от чего два-три раза в день, когда я здесь проходил, в груди у меня возникал теплый комок воспоминаний о Большом Яблоке — Нью-Йорке. Как будто прозвучал знакомый автомобильный рожок или пахнуло духами любимой девушки. Сиденье наполовину перегораживало грязную рыжую тропу, по которой я ходил в «Добрую гавань» к Хоппи и ежедневно наблюдал его медленный распад. С каждой новой неделей сиденье все больше теряло свою целостность, оставаясь тем не менее узнаваемым, как бывает со старым, постепенно опускающимся соседом. Несколько раз в день я почти ждал момента, когда мне придется через него переступать, ибо, несмотря на всю любовь к Кэнди (любовь, которая существует и поныне, ведь мы почти превратились в мистера и миссис) и несмотря на решительное намерение привыкнуть (и это как минимум) к Алабаме, я по-прежнему тосковал о Нью-Йорке. Мы, бруклинцы, урбанистические животные, а что может быть менее урбанистическим, чем эти унылые южные городки из красного кирпича, откуда разбежались и машины, и люди? Подозреваю, они и всегда-то были унылыми и пустыми, но в наше время выглядят пустыннее и тоскливее, чем когда-либо прежде. Как и большинство американских городов, не важно, северных или Южных, Хантсвилл дожил до того, что жизненные соки ушли из центра на окраины и объезды, из темного, мертвеющего сердца к звенящей, сияющей неоном коже организма — к паркам, ресторанам с «быстрой едой», универсамам и дисконтным центрам.
Не то чтобы я жаловался. Пусть и мертвый, такой городок подходил мне куда больше, чем Окраина, где невозможно жить человеку, передвигающемуся, как в то время я, на своих двоих. Правда, это совсем другая история, однако ее можно здесь поведать, потому как и она касается Виппера Вилла и Края (города, конечно, а не Вселенной).
И разворота.
Когда я перебрался сюда из Бруклина, чтобы быть поближе к Кэнди, то продал ей «Вольво Р-1800», который получил от своего лучшего друга Вилсона By за то, что помог ему вернуть с Луны ЛВХ — лунный вездеход (это еще одна история, и я рассказал ее в «Отверстии в дырке»). Я помогал Кэнди ухаживать за машиной не только потому, что был ее дружком, практически уже женихом, но и потому что «Р-1800» — единственный по-настоящему спортивный автомобиль среди семейства «вольво» — является той редкой классической разновидностью, с идиосинкразиями которой даже и утонченный автомеханик с Юга (а никто не восхищается ими больше, чем я) справиться не в состоянии. Взять, к примеру, карбюратор. Дроссельные заслонки «вольво» начинают пропускать воздух после нескольких сотен тысяч миль, и, по мнению By (естественно, именно он мне все эти цифры и показывал), единственный способ привести их в норму, особенно если бедной машинке пришлось поменять климат, — это довести «вольво» до 4725 оборотов в минуту на третьей скорости, выбрав участок дороги с уклоном 4–6 градусов и день с примерно средним коэффициентом влажности, и гонять бедняжку, пока выхлопная струя не заставит двенадцатидюймовую пластину металлической фольги, сунутой между корпусом и коробкой передач, запеть точно на ноте «ля». Лично у меня нет абсолютного слуха, но для такого случая я раздобыл электронную штучку для настройки гитары на батарейках, а в Хантсвилле, на северной окраине, имеется длинный прогон старого четырехполосного шоссе как раз с шестиградусным уклоном. Оно там выходит за пределы городка и огибает Беличий хребет — осколок Аппалачских гор высотой в тысячу триста футов, который доминирует над северной частью округа. Так как процедура, изобретенная By, осуществляется в несколько приемов, я отправился на дело с утра пораньше в субботу, полагая, что все копы будут на церковной службе, и на обратном пути (что было моей первой ошибкой) ради экономии времени, еще за пределами города, развернулся в неположенном месте под знаком «ТОЛЬКО ДЛЯ ПАТРУЛЬНЫХ МАШИН». Дело я сделал и уже собирался доставить машину обратно в город, подхватив Кэнди у церкви (методистской), когда в солнечном ореоле возник дымчатосерый «смоуки» и, куда уж тут денешься, затрубил в свой охотничий рог.
Полицейские вообще и в Алабаме в частности — это мрачные, излишне приверженные правилам создания, начисто лишенные чувства юмора. Так что второй моей ошибкой была попытка объяснить стражу порядка, что я на самом деле не ехал, а настраивал машину. Он воспользовался моими собственными словами, чтобы обвинить меня в нарушении шести пунктов одного и того же правила: «Неправильный разворот». Третья ошибка состояла в попытке сообщить ему, что он имеет дело практически с будущим зятем Виппера Вилла Нойдарта (я еще не делал Кэнди формального предложения). Откуда мне, бедному, было знать, что Виппер Вилл когда-то пальнул именно в этого патрульного? Результатом всех этих ошибок было то, что по совокупности «преступлений» меня доставили к мировому судье (служба в церкви как раз кончалась), который поделился со мной информацией, что Виппер Вилл однажды назвал его… э-э-э… ну, в общем, ясно, после чего выхватил мои нью-йоркские права и в качестве наказания на три месяца лишил права обращаться за алабамским вариантом этого документа.