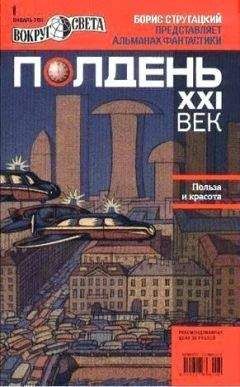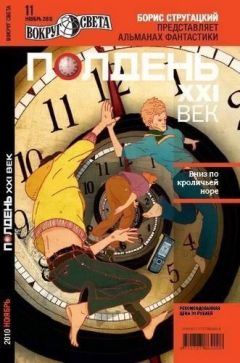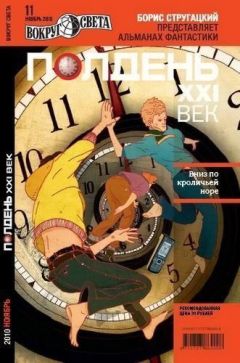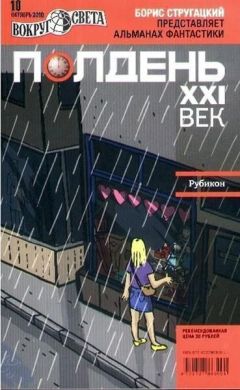— Он так любит собак?
— Может, и любит. Кого-то ж надо. Или чувствует родственную душу: ему, наверное, тоже хочется грызть, кусать, рвать…
— Кого? За что?
— Всех, за все. За жизнь его такую, затраханную, замордованную. Мне это понятно, я, может, такой же был бы, если б карандаш не подвернулся. За карандаш держась и выплыл. А ему не за что ухватиться, его одна злость держит. Ты думаешь, когда он из твоей «Жизни в искусстве», из первоиздания, страницы выдрал на подтирку, и тебя потом пришлось отпаивать…
— Я ему ничего не сказала!
— Ну, я ему все сказал. Но ты что думаешь, это он по наивности?
— Нет, Ваня, он не играл. «Драна, желта — для ча? в сяти всё есь»… Он правда не знал, зачем она.
— Но он знал, что она тебе дорога. Понимаешь?
— «Народ злой, изо всех сил злой».
— Чего это ты на народ?
— Это не я, это у Достоевского…
— Ну, изо всех сил, или может еще добавить, я не знаю, но какая жизнь, такие и люди… А какие люди — такая и жизнь. Вот и разберись, кто виноват.
— Ваня… А он — нет, я не против, просто… он еще долго у нас… — он не говорил?
— До Успения, вроде. А может, до Усекновения.
— А это… когда?
— Ну, я помню, что ли? Посмотри. Ничего, переживем, не бери в голову. Я еще посижу тут. Давай. До вечера.
* * *
— Витька вчера звонил из Штатов.
— Да? Как он там?
— А вот напомни, у какого это поэта стишок:
Нью-Йорк, Чикаго, Висконсин,
Айова.
Как вам живется, господин?…
— Прекрати!
— Прислал вот беседу с боссом — типа начало большого пути. Хочешь послушать?
— Ну давай, любопытно.
«— You ought to give up your fucking russian…» О, пардон…
— А сразу включить транслятор ты не мог?
— Ну извини, забыл. Вот, семейный вариант:
«— Вам/тебе следует оставить ваши/твои…»
— Ну, выбери «ты». Судя по такому началу…
— Да, тут, скорей, на «ты».
«— Тебе следует оставить твои милые русские привычки. Ты прилетел сюда из твоей милой России с твоими милыми недоношенными идеями, которые у нас уже пополам в бетоне — пополам в земле. Так что милую прицкеровку ты здесь не жди. И ничего здесь не жди. И тебя здесь не ждут и не дождутся. Но ты не полный инвалид на голову, и милое дело тебе найдется. Вот, позанимаешься местами индивидуального пользования. Знаешь, что такое? У вас в России есть? Ну и рисуй. Быстро и без милых ошибок. И еще: пока не вырос в большую самку собаки, громко не тявкай, у нас не любят.
— А когда вырасту, полюбят?
— Нет. Но тогда тебе будет на это уже насправить большую нужду».
— Да, не очень весело… А прислал тебе, хотя с тобой больше всех ругался.
— Ругался! Он раз завелся и в драку полез.
— Боже мой, ты с ним дрался?
— Что я, больной? Вытянул руку и держал, пока он не устал трепыхаться.
— И всё?
— Ну как. Обиделся, что ему по тыкве не дали, мужика в нем не уважили.
— Долго дулся?
— Да нет… У меня в расчеты-то ошибочка все-таки затесалась — может, с недосыпу. Ну и на представлении…
— Он торжественно отмстил?
— Нет… Ну, то есть, да, но когда уже разошлись все. Подошел, ткнул молча и ушел. Типа: «я тоже хилых не бью». Мелкий он больно, у таких всегда гонору…
— Мал, да удал. Кроме него ведь никто не заметил?
— Да… Тогда не заметили, а сейчас заметят. Что-то странное у меня: ошибки пошли, никогда не было. По несколько раз проверяю, потом смотрю — ё-моё! И какие-то нелепые, дикие: то в 10 раз, то плюс на минус, то вообще расчета нет, а я помню, как его делал, как проверял, и помню, что так уже было — во сне, что ли? Бред какой-то… Оно, конечно, со всеми бывает. Никитин, вон, ветры пропустил над Мамаевым курганом, «Родина-мать» чуть меч не выронила. Но ему-то было уже под шестьдесят, да и башня задолбала. Черт знает…
— Ваня, ты просто загнал себя. Конкурс, пожар, на нервах всё. Тебе надо отдохнуть.
— Не знаю я, что мне надо… А мне прислал, значит, больше некому. Всё бегают, всё ищут, где глубже, где лучше, а потом вот им… Айова. Везде.
— Знаешь, мне звонит иногда — даже не иногда, а чаще, чем хотелось бы… да и не хотелось бы… Ну, в общем, она старая, злая, несчастная, неблагодарная, у нее дурной глаз, я боюсь, когда она спрашивает о тебе и Женьке, но у нее в телефонной книжке остался только мой телефон… Ответь ему, Ваня. И — без насмешек, да?
— Угу.
* * *
— Ваня, мне сейчас звонила Эля, и… и я даже передать не могу всего, что от нее услышала!
— Верю.
— Ваня, как ты мог! Какое злое, какое скверное мальчишество. Ты можешь ее не любить…
— Спасибо, уже. Но я что-то не врубаюсь…
— И оставь этот жаргон, такой же отвратительный, как твои шутки…
— Какие шутки, Мила? Я, что ли, ее диссерт редактировал? Да видал я ее…
— Ваня, у них профессиональная служба защиты, они вычислили тебя!
— Да не то они…
— Перестань! Это нелепо и… и трусливо! Совсем, совсем на тебя не похоже. И эгоистично: ради мелкого нечистого удовольствия — в какое положение ты меня поставил? Я оказалась перед ней виновата, она оскорблена и действительно не стеснялась в выражениях, я даже не ожидала…
— Это я — эгоист, пакостник и трус? Ни хрена себе!
— И я просила тебя оставить, наконец… this damned, ugly, vulgar language!
— Язык? Что — язык?
— Знаешь что, не валяй…
* * *
— Ну, что, Тень, ты теперь мне скажешь? Вводные такие: они нашли в проекте серьезные ошибки. Дикие, несуразные, нелепые ошибки; объяснить не смог. От руководства проектом отстранен, назначена комиссия по полной проверке документации. И что еще там обнаружат, не представляю… Ничего не могу понять… Пока предложили сесть под менеджера рядовым исполнителем; в случае отказа мне светит увольнение по профнепригодности. Что скажешь? Так и будет?
— Нет.
— А что? Еще хуже? Посадят?
— Да… Шутка. А может, не шутка. Всё путем. Ты зажрался, как все вы тут. Ты на все плевал — рабо-отает он! Вот и получишь, что заработал. Всё, меня больше нет. Вирус. Конец твоей программе. Антисеттер он обновил!
— Подожди! как же… Вот и все. И Тени нет, не с кем и посоветоваться. Остался голый… Кость мне бросают — грызи! Интеллигенция… Хотя чего там советоваться, знаю всё. Кто скажет мне то, чего я не знаю?… А вот мы сейчас в Милкиной базе — чего она там про Достоевского… Слово писателя — пусть поддержит. Зачем они еще нужны? Ключи: голый, интеллигенция, кость. Отбор? — ну, по релевантности. Время? — без ограничений. Поиск!
«Голый разврат эгоизма, не стыдящийся своей скверной наготы и боящийся только палки, но и той не боящийся… Сохраняется и высшая интеллигенция, но страшно подумать: всё седые, всё 40-е годы. А новые — в новых один цинизм, разделись догола… безо всякой мысли, просто как дикие, как скоты. Собака грызет кость, другая ворчание. Вот эмблема: стащить кость и сгрызть ее одному. Дикие! Дикие! Орангутанг». Ф. М. Достоевский, 1876 год.