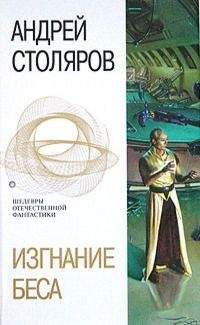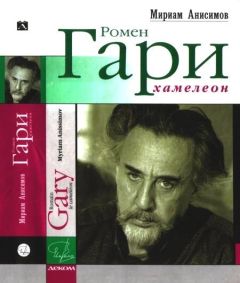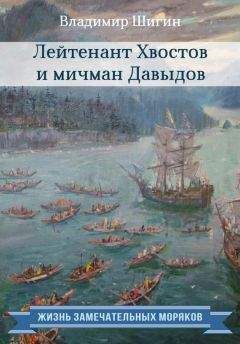Более их никто не видел.
Бойкая городская газета, не имеющая подписчиков, зато раздаваемая бесплатно у всех станций метро, откликнулась на происшествие заметкой «Петербург – родина ньюфаундлендов», а солидные «Ведомости», считающие своей обязанностью направлять и воспитывать русский народ, разразились громадной передовой на тему: «Куда идет демократическая Россия?». Вину за случай на Невском автор передовой возлагал непосредственно на нынешнего президента.
И еще одно загадочное событие произошло в этот день. По отрезку Екатерининского канала, загнутому от Сенной площади в Коломенскую часть города, протянулось даже с каким-то стоном медленное дуновение, темная осенняя вода зарябила, листья, уже скопившиеся у тротуара, закрутились тихим буранчиком, буранчик распался, из него шагнул на асфальт высокий человек в черном плаще до пят, наводящем на мысль о принцах, единорогах, звездочетах и магах. Впрочем, плащ человек сейчас же снял и перебросил через левую руку, прикрыв таким образом меч, притороченный к поясу, и оставшись в кожаной куртке с медными пуговицами, в темных джинсах или, во всяком случае, в чем-то на них похожем, и в красивых полусапожках, куда эти джинсы были заправлены. Одежда, может быть, не слишком обычная, но и не выделяющаяся из разнообразия городских фасонов. Человек поднял лицо, огляделся, кажется, с некоторым любопытством: пожелтевшие сухие тополя вдоль канала, пыль у поребриков, здания, подрумяненные немощным сентябрьским солнцем, – расширив ноздри, втянул холодноватый воздух, сказал: Ну что ж… – по-видимому, самому себе и, неопределенно пожав плечами, двинулся по каналу в ту сторону, откуда не доносилось городского шума.
Набережная в этот час была совершенно пустынна, цокот подковок на полусапожках отскакивал в вязь чугунного парапета, медленный порыв ветра утих, и хотя второе событие было намного важнее первого, появление человека в плаще прошло незамеченным.
Разумеется, я в те дни ни о чем подобном даже не подозревал. У меня были свои неприятности, говорить о которых сейчас не имеет смысла. Для меня эти события начались несколько позже, вероятно, через неделю, а именно в тот незабываемый вечер, когда я, засидевшись в одной компании, где отмечали первый день моего отпуска, несколько разгоряченный общением и одновременно опустошенный бессмысленными разговорами, прождав с полчаса трамвай и потому обозленный, после долгой ходьбы чуть ли не через весь город, свернул в свой двор и вдруг в темном его углу, куда свет редких окон почти не достигал, услышал тихий, но очень явственный стон.
Доносился он от скамейки, перед которой находилось нечто вроде песочницы: деревянный вбитый в асфальт прямоугольный ящик, где пересыпая землю, почему-то называемую песком, возились по утрам дети.
Я замер.
А стон повторился – такой же тихий, но слышимый чрезвычайно отчетливо, горловой, проталкиваемый болью сквозь напряженные мышцы, и неожиданно оборвался на всхлипе, будто стонавшему заткнули рот.
Это меня испугало.
Я потом часто думал, а что было бы, если бы я в тот вечер не остановился, услышав его, не стал бы оглядываться, поскольку не очень-то интересно, а просто пожал бы плечами и пошел дальше. Вероятно, тогда вся моя жизнь была бы совершенно иной. Однако, как уже говорилось, я был разгорячен бессмысленными разговорами, тратой времени, идиотским ожиданием на остановке, а потому, не слишком отдавая себе отчет в том, что делаю, шагнул в ту сторону и присел, всматриваясь.
Он лежал между песочницей и скамейкой, судорожно загребая пальцами серую массу песка, и даже при скудном дворовом освещении видно было, что рубашка на груди у него страшно разодрана, сквозь лохмотья белеет голая кожа, и она тоже разодрана, будто металлическими когтями, и он из последних сил стискивает рану ладонью, и на пальцах его блестит что-то липкое, коричневое и противное.
Причем в ту секунду, когда я с замиранием сердца присел, еще не зная, что делать, человек распахнул глаза, удивительно просиявшие светлым холодом, спекшиеся губы его дрогнули, и я понял, что он меня видит.
– Б… а… с… о… х… – просипел он, выталкивая каждую букву по отдельности.
– Что?
– Басох…
Человек немного скосил глаза, и неподалеку от песочницы я увидел масляную продолговатую лужу, словно на асфальт пролили мазут или черную тушь.
Долетел какой-то специфический запах.
Мне это не понравилось.
– Сейчас, – торопливо сказал я. – Подождите, я вызову «скорую помощь»…
Я уже хотел бежать к ближайшему телефону.
Однако человек медленно повернул зрачки, и от холода, который в них действительно обнаружился, меня бросило в дрожь.
– Нет, – хрипловато сказал он. – Зачем врача? Не надо…
Тон был таким, что я невольно остановился. Невозможно не подчиниться, когда приказывают подобным голосом. А человек, видимо, тут же забыв обо мне, с усилием сел, вцепившись в доски песочницы, дважды глубоко вздохнул, наверное, чтобы придти в сознание, и, немыслимо заскрипев зубами, поднялся, оказавшись почти одного роста со мной.
Опирался он на нечто вроде плоского посоха с крестовидной рукояткой, поблескивающей металлом, его ощутимо, будто колебалась земля, покачивало из стороны в сторону, и он, как кукла, переставляя ноги, двигался не туда, где темнела дворовая арка на улицу, а несколько вбок, словно намеревался упереться лбом в стену.
И опять у меня была возможность пожать плечами и пойти дальше. Я сделал все, что от меня требовалось: предложил помощь и получил недвусмысленный отказ. Больше я никому ничего не был должен. И я, вероятно, в конце концов, так бы и поступил – хочет обойтись своими силами, ради бога! – но в это мгновение человек, движущийся к стене, пошатнулся, закачался на посохе, видимо, не находя равновесия, и если бы я не подскочил и не обхватил его со спины, вероятно, шмякнулся бы во весь рост о твердь асфальта.
У меня было всего полсекунды, и я решился.
– Пойдемте, вам нужно лечь!..
– Куда? – плохо соображая, спросил человек.
– Ко мне. Я живу один, у меня – спокойно…
– К тебе?
– Ну да, пойдемте…
Некоторое время он как бы обдумывал предложение, причем глазные яблоки у него страшно закатывались под веки, а потом поднял руку и вцепился в мое плечо с такой силой, что затрещали кости.
Зубы его дико ощерились.
– Я тебе верю, – хрипло сказал он.
На лестнице он окончательно скис, навалился всей тяжестью, и мне пришлось просто волочь его по ступенькам. В лифте же он обморочно оседал на пол и таки осел, стоило мне уже на площадке отпустить его, чтобы отпереть квартиру. Хорошо еще, что никто не попался нам навстречу. А когда я все-таки затащил его в комнату и, как вязанку дров, уронил на тахту, тоже вымотавшись до предела, он и развалился именно, как вязанка дров: голова запрокинута поверх валика, руки разбросаны, точно у неживого, с сапожек прямо на покрывало сочится мазутная жидкость. Подошвы, подбитые гвоздиками, были заляпаны ей весьма основательно. Впрочем, сапожки я с него сразу же стянул. При этом плоский железный, кажется, посох ощутимо брякнулся на пол. Поднимать эту дурынду я, конечно, не стал, при безжалостном электрическом свете человек выглядел еще хуже, чем в дворовом сумраке: лицо и волосы, испачканы тем же самым мазутом, пальцы, будто в вишневом варенье, которое уже подсыхает, ужасные окровавленные лохмотья рубахи, кожаная безрукавка, тоже скользкая на ощупь от крови.