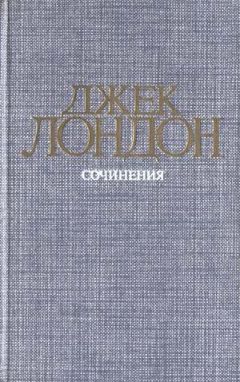А если так, значит, все наше общество зиждется на лжи! В ужасе останавливалась я перед этим заключением. Но передо мной живым укором стоял Джексон, рука Джексона, кровь, обагрившая мое платье и каплями стекающая с нашей крыши. Передо мной было много Джексонов, — разве Джексон не рассказывал, что видел их сотни? Никуда не денешься от Джексона.
Я побывала также у мистера Уиксона и мистера Пертонуэйта, крупнейших акционеров Сьеррской компании. На них мои рассказы о Джексоне не произвели никакого впечатления; их люди оказались куда отзывчивее. С удивлением увидела я, что эти джентльмены не считаются с общепринятой моралью, что у них в обиходе своя, аристократическая мораль, мораль господnote 33. Они напыщенно рассуждали о своей особой «политике», утверждая, что то, что для них полезно, то и справедливо. Со мной они говорили по-отечески наставительно, снисходя к моей молодости и неопытности. Среди тех, с кем столкнули меня мои расследования, эти оказались самыми бесчувственными и зачерствелыми. Оба были абсолютно уверены в своей правоте. Оба смотрели на себя, как на спасителей человечества, считая, что только от них зависит благополучие масс. И они самыми мрачными красками рисовали страдания, на которые были бы обречены рабочие, если бы не мудрость богачей, обеспечивающих им работу.
При первой же встрече с Эрнестом я изложила ему все.
Он просиял от удовольствия:
— Да вы, оказывается, молодчина. Решили самостоятельно доискиваться правды! Ну что ж, ваши обобщения основаны на опыте, и они верны. Ни один человек, прикованный к промышленной машине, не волен в своих мыслях и поступках, кроме крупных капиталистов, а те и подавно не вольны, — простите мне этот ирландизмnote 34. Как видите, наши властелины настаивают на своей правоте. Ну, разве это не верх комизма? В них так еще сильна человеческая природа, что они и шагу не ступят, не спросясь собственной совести. Им, видите ли, нужна моральная санкция для их многообразных дел.
Всякий раз, как они затевают что-нибудь новенькое, — в области бизнеса, конечно, — они норовят опереться на соответствующую доктрину — религиозную, нравственную, научную или философскую, — подтверждающую их правоту. А там — за дело; неважно, что ум человеческий слаб и желание свое нередко принимает за объективную истину. Что бы они ни задумали, за санкцией дело не станет. Это — беспардонные казуисты. К тому же они и иезуиты, так как пускаются на любые злодеяния, уверяя, что из этого воспоследует добро. Одна из их любимейших аксиом — что они цвет нации, квинтэссенция ее мудрости и энергии. Это дает им право держать на пайке все остальное человечество и каждому устанавливать его рацион. Они даже возродили учение о божественном происхождении королевской власти — разумея королей финансовых и промышленныхnote 35.
Слабость их положения в том, что они дельцы и только, и никакие не философы, биологи или социологи. Если бы они были тем, или другим, или третьим, это бы еще куда ни шло. Делец, который был бы в то же время биологом и социологом, представлял бы себе в какой-то мере нужды человечества. Но нет, вне своей области они круглые невежды. Они знают только свой бизнес. Ничего другого у них нет за душой. Интересы общества и человечества — для них книга за семью печатями. И эти-то самозванцы берутся вершить судьбы миллионов голодных людей да и всего остального человечества в придачу! Когда-нибудь история зло посмеется над ними!
Разговор с миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт уже не мог принести мне ничего нового. Обе они были дамы из обществаnote 36. У каждой был свой пышный дворец в нашем городе и множество других пышных дворцов — в горах, на взморье, на берегах живописных озер. В их распоряжении были целые полчища слуг. Обе дамы были видные патронессы, оказывавшие покровительство университету и нескольким храмам в городе, — священники особенно ценили их благодеяния и пресмыкались перед нимиnote 37. Словом, это были влиятельные дамы, дамы с весом, причем вес им давали деньги, а влияние заключалось в том, что они успешно пускали эти деньги в оборот для идейного подкупа своих сограждан. Все это я вскоре узнала от Эрнеста.
Подобно своим мужьям, они напыщенно рассуждали о «политике» богачей, об их ответственности и обязанностях. Подобно им, верили в свое право руководствоваться особой моралью, составляющей прерогативу их класса; обе много и пространно рассуждали, причем смысл их громких фраз был темен и для них самих.
Обе дамы разгневались, когда я рассказала им о тяжелом положении семьи Джексона, а особенно, когда выразила удивление, как это они ничего не сделали для бедного калеки по собственному почину. Мне было заявлено, что они не нуждаются в непрошеных советах и указаниях. Когда же я прямо попросила их помочь Джексону, обе дамы категорически отказались. Меня особенно удивило, что отказ их прозвучал одинаково, хоть я и говорила с каждой в отдельности и ни та, ни другая не знали, что я навестила или собираюсь навестить ее подругу. Каждая из них была рада случаю подчеркнуть, что не в ее правилах награждать рабочих за небрежность; к тому же это значило бы вводить в соблазн бедняков, все они, пожалуй, так и начнут себя калечитьnote 38.
Обе дамы и в самом деле так думали. Они упивались сознанием своего классового и личного превосходства. Каждый их поступок был освящен классовой моралью. Покидая пышный дворец Пертонуэйтов, я невольно оглянулась назад, вспоминая слова Эрнеста, что эти богачки тоже прикованы к промышленной машине, но только они сидят наверху.
ГЛАВА ПЯТАЯ. КЛУБ ФИЛОМАТОВnote 39
Эрнест часто бывал у нас, и не только общество отца и наши обеды с традиционными дискуссиями привлекали его к нам. Я втайне лелеяла надежду, что без меня наш дом не обладал бы для него такой притягательной силой, и вскоре это подтвердилось. Эрнест нисколько не походил на обычного воздыхателя. Его рукопожатие становилось все крепче, все настойчивее, а глаза, в которых я с первых же дней улавливала какой-то вопрос, вопрошали все повелительнее.
Я уже говорила, что сначала Эрнест не понравился мне. Потом меня повлекло к нему, но вскоре оттолкнули его яростные нападки на меня и на мой класс. Затем, убедившись, что он не злопыхательствует и даже не сгущает краски, я стала искать его дружбы. Он сделался моим учителем. Он обнажил передо мной подлинную сущность окружающего общества и научил под масками и личинами распознавать жестокую правду.
Как я уже сказала, Эрнест не был похож на обычного воздыхателя. Нет девушки в университетском городе, которая в двадцать четыре года не имела бы кое-какого опыта в сердечных делах. Наряду с атлетами из спортклуба и коренастыми футболистами мне объяснялись в любви и безусые первокурсники и почтенные профессора. Но ни один из них не выражал своих чувств так, как Эрнест. Сама не знаю, как я впервые очутилась в его объятиях. Не успела я опомниться, как губы его завладели моими. Перед его простотой и искренностью казалась бы смешной чопорность оскорбленной девы. Он вихрем ворвался в мою жизнь и увлек за собой со всей порывистостью своей натуры. Он так и не сделал мне предложения. Его поцелуи и объятия сказали мне яснее всяких слов, что мы поженимся. И никаких разговоров, объяснений. Если и были разговоры, то значительно позднее, и только о том, когда мы поженимся.