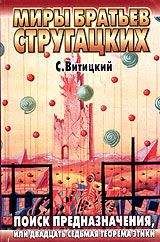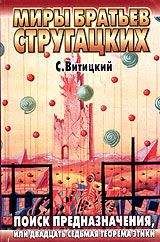Это был взрыв. Ненависти. Бешенства. Слепой злобы. Отчаяния… Безнадежности. Жалости к себе…
Это был смертоносный танец ослепшего, остервенелого ножа… На местном наречии нож назывался — печак, или пчок, и он сразу же вспомнил один такой знакомый печак — острее всякой бритвы, с арабесками на лезвии, с резной костяной ручкой — Рахматулло демонстрировал всем желающим, как здесь режут барана: коленом упираются в лопатки, пальцы запускают глубоко в ноздри, загибают голову с безумными глазами вверх и назад, и — по напряженному горлу — печаком, всего одно точное движение… (никто этой картинки до конца не досмотрел, все бросились кто куда, и плов потом ели без всякого удовольствия)…
Замечательно, что поняв наконец все, он испытал не новый приступ страха, как следовало бы ожидать, а — непереносимо мучительный, до лицевой судороги, стыд! Необходимо было сейчас же, немедленно, не теряя секунды даже, убрать, скрыть, спрятать, может быть даже уничтожить все это… этого никто не должен был видеть… срам, срамотища, кошмар!.. Он в панике сгреб постель, кое-как сложил раскладушку (не только брезент изголовья, — там и пружины были искромсаны и болтались) и поволок все это, кучей, подальше, с глаз долой, в большую палатку «комсостава»… Пан-шеф там спал, закутавшись до бороды, и безмятежно дрыхнул Виконт, откинув в сторону изуродованную руку (сморщенный кулачок с нелепо торчащими из него двумя пальцами)… Он торопливо, но бесшумно засунул изуродованную раскладушку под раскладушку Виконта, а сам расстелил спальник на старом своем месте, забрался внутрь, засунул в изголовье распоротую подушку, лег и затаился, как нашкодивший пес. Стыд и страх срама медленно отпустили его, и он заснул.
А утром все вдруг разрядилось.
Станислав проспал подъем, — спал как мертвый, совсем отключился, не слышал ничего, — а когда проснулся, было уже двенадцать, жара набрала силу, он был в лагере один, что его несколько удивило, но и обрадовало тоже, тем более, что живот его успокоился совсем. Он тут же извлек на свет изуродованную раскладушку и закопал ее поглубже — в груду лишнего оборудования, под все эти мешки, тазы, ржавые лопаты и какие-то узлы. Ах, как хотелось ему и все ночные воспоминания вот так же закопать — поглубже, и — навсегда… Впрочем, при свете солнца воспоминания эти уже не казались такими отчаянно трагичными и стыдными. С ними, оказывается, можно было жить и даже радоваться жизни…
Но тут спустился с вершины тепе Виконт — готовить обед — и рассказал ему об утренних событиях. Оказывается, сразу после завтрака с Рахматулло вдруг сделался эпилептический припадок — он издал протяжный нечеловеческий звук, то ли вой, то ли рев, мягко повалился навзничь, и его начало корежить и выгибать. Зрелище было, сказал Виконт, страшноватое, но жена его (видимо, уже привычная) не растерялась, проделала все, что надо, а тут как раз и грузовик экспедиционный прикатил. Рахматулло вместе с женой и всем ихним барахлом погрузили на этот грузовик и отправили в город, рабочий день начался с опозданием, и на раскоп все пошли, исполненные дурных предчувствий…
И не зря!
Рабочие напоролись на гунду, так что теперь уже — всему конец. (Гунда — это особая легенда. Если верить рассказам и описаниям, это такое довольно крупное насекомое, с крыльями, черно-желтое, полосатое, — но не оса и не шершень. Живет в земле. Укус — смертелен, убивает на месте. Когда выкапывают ее случайно из земли, она гундит, — не то издает специфический звук, не то наводит беду. Даже простая встреча с ней на раскопе предвещает несчастье). Сам Виконт (гунда интересовала его давно и чрезвычайно) и в этот раз тоже ничего не увидел. Рабочие вдруг загалдели и всей толпой полезли из раскопа с паническими криками: «Гунда!.. Гунда!» Гунду видел только один из них, но в панике были все. С большим трудом пан-шефу удалось вернуть их к трудовому процессу, но дело, видимо, дальше не пойдет. Не будут они теперь здесь работать. Все. Гунда!
А тем же вечером Виконта сразил очередной его псевдоинфаркт: за ужином он вдруг сделался серым, стал говорить протяжно и вдруг повалился в обморок, обрушив стол, стулья, посуду. Все перепугались насмерть, но Станислав не растерялся (не в первой!), и все, как и раньше, обошлось… Однако теперь уже всем стало ясно, что ничего хорошего ждать здесь не приходится, и еще через день пан-шеф-отец свернул раскопки на Кала-и-Муг. Все. Нельзя здесь работать. Гунда!..
Взойдет заря, и снова зря
Машину гнать по дорогам раздолбанным,
Не пить, не жрать, тепе искать,
Где статьи и монеты закопаны…
Печаль!.. И никто ничего никогда так и не узнал, не заподозрил даже.
— Ты это что, братец? — спросил (уже в новые времена) Виконт, прочитав эту историю. — Привирать начавши?
— Никак нет, ваше сиятельство, — ответил Станислав, испытывая почему-то приступ самодовольства, словно подвиг какой-то ему довелось некогда скромно совершить, а теперь вот и весь мир об этом подвиге наконец узнал.
— Он хотел тебя убить? — спросил потрясенный Виконт, и Станислав ответил ему честно:
— Не знаю.
Это теперь уже невозможно было установить. Ударил ли Рахматулло в первый раз своим печаком, чтобы рассечь ненавистную глотку, пробить голову, мозг, достать сквозь ребра подлое сердце? Или ударил он именно пустоту, зная точно, что там пустота, и именно потому, что там была пустота? И потом раз за разом порол, драл, рассекал, дырявил стальным зубом в злобе и отчаянии — оттого, что первый удар оказался таким бессмысленным, или потому именно, что получилась возможность навести ужас и насладиться безнаказанно — драть и распарывать мертвую материю, наводя ужас, наслаждаясь местью и в то же время не становясь убийцей?..
Теперь это было уже неважно, наверное. Да и тогда это тоже было неважно. А вот следует ли данный эпизод включать в список доказательств Теоремы? Они обсудили этот вопрос, и было решено: можно. Эпизод был принят и зафиксирован, как ДЕСЯТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Бытия Рока, или ВСЕГДА НАДО ЗНАТЬ СВОЕ МЕСТО.
Его надо было как-то называть, героя возникающего романа. Имя ему придумывать не хотелось, в этом было какое-то кокетство, потому что подавляющее большинство материала Станислав брал из собственной реальности, так что герой (пока) был он сам, без сколько-нибудь заметных примесей. Виконт предложил:
— Назови его Предназначенец… или Роководимый…
— Почему — Руководимый? — спросил Станислав.
— Не Руководимый, а РОКОводимый, то есть «водимый Роком»!