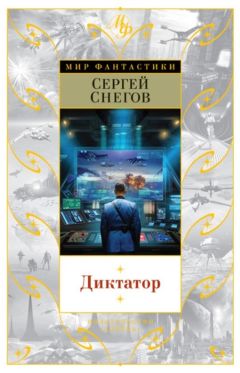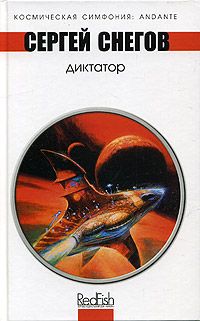Теперь я хочу воротиться к той девочке. Да, летчик нападал не на нее, он целился не в ее маленькое тельце. И если говорить о конкретном адресате его бомб, то им был я, были мои помощники. Он направлял свои удары против нас, руководивших войной, только мы были истинной целью его внезапного появления из-за горизонта. И если он не мог обрушить свой бомбовый груз непосредственно на мою голову, то лишь потому, что и он сам, и пославшие его генералы отлично понимали — не подпустят его ко мне, он сам погибнет задолго до того, как очутится в опасной близости. И он бил по ней, чтобы резонанс ее гибели, ее мольба о пощаде пронзила мой слух, истерзала мою душу. Она ведь ничего не решала в войне, она ведь ничем не воздействовала на ее течение — только этим, своим жалким криком, вечно звучащим в моих ушах, своими крохотными ручонками, взметнувшимися к небу в последнем пароксизме ужаса. Точно, очень точно рассчитали операцию заморские генералы, безошибочно точно провели ее летчики, названные в Кортезии бесстрашными героями. Они ударили по моей совести, заставили задыхаться от нестерпимого чувства ответственности. Вот что они совершили, эти герои-летчики, вскоре сами погибшие в наказание за нее на своих аэродромах либо, спустя еще неделю, живыми брошенные с высоты на камни своих городов, на головы своих рыдающих родителей и жен — они заставили меня понять, что истинным убийцей неведомой мне девчонки был я, больше их всех — я, в первую голову — я. И месть им собственной их гибелью за ее гибель, по сути, не является справедливым отмщением, ибо главный виновник ее смерти жив — я! Требую смертной казни для себя за все то зло, что я причинил людям, думая, что веду человечество к великому совершенствованию и еще не слыханным благам.
На этом Гамов закончил свою речь и сел.
Какое-то время — мне не измерить его в привычных нам единицах — зал пребывал в оцепенении. Мне вдруг почудилось, что Гонсалес сейчас встанет и торжественно возгласит, что, уступая настояниям Гамова, приговаривает и его, и себя, и меня заодно с ними, к самому справедливому, что мы заслужили, — к смертной казни.
Гонсалес встал и произнес очень буднично:
— Вызываю последнего свидетеля защиты, Тархун-хора, — первосвященника Кондука, наместника и потомка пророка Мамуна.
Так на арене сегодняшнего противоборства появилась новая могучая сила, о какой я и отдаленно не мог подозревать. Пока Тархун-хор неспешно приближался к креслам защиты, я вспоминал, что знал о нем. Но мне вспомнилось только то, что такой человек, глава церкви в Кондуке, реально существует и что он не восстал против президента Кондука Мараван-хора, приказавшего своей армии внезапно напасть на наш мирный городок Сорбас. И что за такое поведение первосвященника следовало бы привлечь к беспощадному Черному суду Гонсалеса, но Омар Исиро, временный оккупационный начальник в Кондуке, почему-то пожалел его, да и других священников не преследовал — очевидно, по особому повелению Гамова, так я это тогда расценил. Не предвидел ли Гамов уже тогда, что первосвященник может впоследствии понадобиться для защиты? Но достаточно было бросить один взгляд на Гамова, чтобы понять — он не столь поражен появлением Тархун-хора, как я, но все же искренне удивлен. Зато Гонсалес никакого удивления не показывал — он-то знал, кого вызывает.
Внешность первосвященника не бросалась в глаза — старик как старик, седой, жилистый, высокий, по всему видно — сохранил немало физических сил, мог бы предаваться не только богослужению, но и физическому труду. Одна одежда выделяла его из окружения — и не только светского, но и духовного. В Кондуке носят нормальную одежду, покрывающую, но не маскирующую тело. Тархун-хор был замаскирован в сиреневый балахон, существовавший как-то самостоятельно от тела и колыхавшийся независимо от движений хозяина. И глаза нельзя было назвать ординарными — глубоко посаженные, они так не по возрасту ярко сверкали из глазниц, что прежде всего замечались на темном от вечного загара лице. В их вспышках, а они порой как бы вспыхивали, была проницательность, а не хмурость.
Тархун-хор подошел к столу защиты.
— Назовите себя, свидетель, — предложил Гонсалес.
Тархун-хор говорил очень ясным и звучным голосом, звучавшим гораздо моложе, чем можно было ожидать от старика. В храме с хорошей акустикой такой голос должен был воздействовать на слушателей независимо от того, что вещал его хозяин.
— Меня зовут Тархун-хор, я семьдесят четвертое живое воплощение пророка Мамуна.
Гонсалес высоко поднял брови.
— Я понимаю так, что вы прямой потомок древнего пророка, семьдесят четвертый по счету поколений?
— Вы неправильно понимаете, судья. Я истинный потомок Мамуна, но по счету поколений только шестьдесят девятый, а по счету воплощений — семьдесят четвертый.
По озадаченному лицу Гонсалеса было видно, что он не разобрался, чем счет поколений отличается от счета воплощений. Но он не захотел углубляться в эту запутанную область.
— Вы просили меня, Тархун-хор, разрешить вам выступить на суде для защиты обвиняемого Гамова?
— Нет, судья, я не просил об этом, — прозвучал спокойный голос.
— Но я вас так понял, Тархун-хор…
— Вы меня неправильно поняли, судья. Я не собираюсь защищать Гамова. Я недостоин быть его защитником.
Гонсалес овладел собой.
— Значит ли это, что, не пожелав пойти в защитники, вы хотите стать его обвинителем?
— И обвинять Гамова не могу. Если я недостоин быть его защитником, то тем более нельзя ждать от меня обвинений.
Гонсалес начал сердиться.
— Ни защиты, ни обвинения. Тогда зачем вы явились?
Тархун-хор спокойно ответил:
— Чтобы убедить ваш высокий суд, что Гамов вам не подсуден. У вас нет прав ни осуждать, ни оправдывать его.
— У меня иное суждение по этому вопросу, свидетель.
— У вас неправильное суждение, судья. И если вы разрешите мне задать несколько вопросов самому Гамову, а затем рассказать о том, что знаю я и чего не знаете вы, то вы перемените свои ошибочные суждения на истинные.
— Задавайте вопросы.
Тархун-хор повернулся к Гамову. Его звучный голос стал особенно торжествен.
— Президент мира, кто ваш отец?
Я не раз замечал, что Гамов в обычном общении не выносит ни вычурности, ни напыщенности. Обращение как к президенту мира, в то время как он усадил себя на скамью подсудимых, не могло ему понравиться. Он хмуро ответил:
— Я не знаю, кто мой отец.
— Тогда ответьте, кто ваша мать?
— И матери своей я не знаю.
— Очень хорошо! Тогда скажите, где вы родились?
— Я не знаю места своего рождения.
Тархун-хор, видимо, ждал таких ответов. Будто два острых огонька вырвались из провалов на темном лице — так вспыхнули его глаза.
— Знаете ли вы что-нибудь о своем детстве? Помните ли себя маленьким?
— О детстве своем не знаю ничего. И маленьким себя не помню.
— Помните ли вы вообще что-нибудь о себе?
— У меня отчетливы воспоминания о том, что происходило со мной после того, как меня спасли в пустыне.
— Вас спасли в пустыне? Около города Сорбаса, правда?
— Да, около города, который так преступно уничтожил ваш правитель Мараван-хор, за что я велел его казнить.
— Я видел его казнь. Он заслужил ее. Расскажите, как вас спасли? И кто спас?
— Меня нашли работники обсерватории неподалеку от их поселка. Я помню только, что меня несли на руках, потом уложили на повозку, а потом я помню себя в постели и врача около нее. Таковы мои первые отчетливые воспоминания о себе. Все остальное пропало — амнезия, потеря памяти, так это называется.
— Вам не говорили о том, что могло предшествовать вашему бедствию в пустыне? Как вы очутились в песках один, почти умирающий?
— Высказывали разные предположения. Точных фактов не было, кроме одного — перед тем, как нашли меня, свирепствовала песчаная буря. Первые этажи обсерватории занесло, все дороги замело. Какой-то караван, шедший в это время в Кондину, столицу Кондука, попал в эту бурю и погиб, во всяком случае, ни следов его в пустыне не осталось, ни о его последующем появлении в Кондине никто не слышал. Я находился в составе этого каравана, недалеко от обсерватории свалился с верблюда или с повозки и благодаря этому, единственный среди всех, сохранил свою жизнь. Все остальные, в том числе и мои родители, были заметены песком. Так мне правдоподобно объясняли мои спасители в обсерватории — и у меня нет оснований сомневаться в их правдивости.
— Правдивость это еще не правда. Весь караван, люди, животные, все повозки заметены, а вас нашли на поверхности. Вы считаете это правдой?
— Я сказал — правдоподобно, а не правда. Я не поручусь за все, что мне говорили, только передаю рассказ. И я не знаю, был ли я погружен в песок или лежал поверху. И то, и другое возможно. Легкого мальчишку ветер мог и катить, не засыпая, а тяжелый груз, людей и животных постепенно заваливало. Думаю, если произвести раскопки в окрестностях обсерватории, то останки погибшего каравана обнаружат.