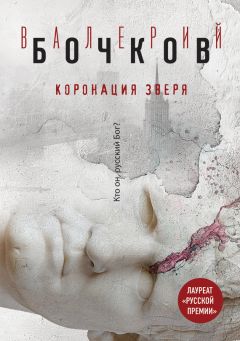В этот момент с улицы раздался крик, звериный истошный вопль. Я даже не разобрал, кто кричит, женщина или мужчина. Шурочка вздрогнула, испуганно вцепилась мне в плечо. Крик, оборвавшись, захлебнулся, словно жертве заткнули рот. Я встал с кровати, быстро подошел к окну.
– Что там? – испуганно прошептала Шурочка. – Это тут, на набережной?
– Нет, – быстро ответил я. – Тут нет никого.
В желтом круге уличного фонаря рядом с автобусной остановкой на тротуаре лежал человек, двое других шарили по его карманам. Мимо проезжали редкие машины. Потом эти двое подтащили лежавшего к парапету; теперь стало видно, что это мужчина, его рубашка задралась, обнажив худой торс. Один ухватил его за ремень, другой под мышки, они подняли и перекинули его через парапет. На асфальте остался ботинок. Один нагнулся, подобрал ботинок и, сильно размахнувшись, закинул его в реку. Второй засмеялся, что-то крикнул ему, потом они быстро пошли в сторону Таганки.
– Иди сюда, – позвала Шурочка. – Что ты там стоишь…
Я кивнул, пальцы мерзко дрожали. Я стиснул кулаки, прижал лоб к стеклу: над притихшей Москвой висела грузная и слепая ночь. Хворо светились уличные фонари, их отражения плыли в тягучей, как смола, воде. Против воли я повернулся к мосту. К первому повешенному добавился еще один, свисавший, касаясь ногами воды. По безлюдному мосту проехал пустой трамвай, салон внутри был освещен теплым янтарным светом. Непонятно к чему я вдруг вспомнил, что под Устьинским мостом на нашей стороне реки была автомастерская, где я ремонтировал свою первую машину – «Жигули» одиннадцатой модели. Цвет назывался романтично, «коррида», на деле машина была просто рыжей.
Мы снова лежали, я снова глазел в потолок, Шурочка курила. Она что-то рассказывала, я кивал. Меня посетила странная мысль: мне вдруг показалось, что я больше никогда не смогу заснуть, сама идея сна представилась мне под новым углом, как нелепое и бездарное времяпрепровождение.
– …не так уж плохо, – продолжала говорить Шурочка. – Поначалу по крайней мере.
Я кивнул.
– Папа зачем-то устроил его к Лужкову, тогда контакты еще… – Она грустно вздохнула. – Мидовские и… другие.
Я снова кивнул.
– Ну тут Любецкий и решил, что сам черт ему не брат…
Любецкий был ее вторым мужем. После меня. Колченогий остряк в ондатровой шапке. Я хотел сказать, что человек по имени Артур, тем более брюнет, запрограммирован на мерзость и подлости, и ожидать от него иных поступков по меньшей мере было наивно.
– … его дочь. Ты, наверное, не помнишь, он тогда мелкой сошкой служил где-то в Питере. Ну а когда питерские поперли в Москву… – Шурочка затянулась. – Лобачев оттяпал жуткое количество недвижимости в Центральном округе…
Ее голос все-таки убаюкал меня. Тихий и монотонный, он точно неспешный поток потянул меня куда-то: из ватной темноты выплыл приблизительный пейзаж Санкт-Петербурга с безошибочным шпилем Петропавловки, по воде Невы брели какие-то темные люди, похожие на католических монахов. Впереди шел некто с лицом Гитлера, но я точно знал, что это Любецкий. «Как они идут по воде?» – мелькнула мысль. И тут же процессия начала погружаться, тонуть. Меня наполнило тихое злорадство: монахи уходили под воду, беззвучно и преувеличенно, как в немом кино, гримасничая и театрально заламывая руки. Я вздрогнул и проснулся.
– Ты спишь? – спросила Шурочка.
– Нет, – бодро соврал я.
Тут же мне показалось, что это уже было – и вопрос ее, и мой ответ. Что мы провалились на какую-то спираль жизни, которую мы уже один раз отыграли. А может, и не один раз: может, ты вспоминаешь лишь предыдущий виток, начисто забывая сто других, точно таких же, которые ему предшествовали. Во рту было сухо, но вставать и тащиться на кухню за водой было лень.
За прошедшие годы я миллиард раз проанализировал нашу с Шурочкой историю – я не поклонник психоанализа, но, думаю, доктор Фрейд остался бы удовлетворен проделанной работой. Перед защитой докторской я прослушал целый семестр в Принстоне и при желании мог открыть собственную практику где-нибудь в Сохо: принимал бы себе манхэттенских неврастеников в темном уютном кабинете с кожаным диваном и бархатными шторами болотного цвета и в ус не дул. Но поскольку я дул в ус, а именно преподавал на кафедре и писал статьи, интересные и понятные от силы дюжине человек, то психоанализ так и остался занятным хобби, которое я практиковал исключительно на себе.
Сновидения, и это всем известно – важный аспект данного метода. Любопытно, что, зная Шурочку наизусть – я помнил назубок каждый изгиб ее уютного тела, цвет летних глаз, оттенок щек морозным утром (аристократически нежно-персиковый, а вовсе не ваш крестьянский румянец), дух речных волос – свежесть травы и июльская меланхолия, аромат страсти (назовем это именно так) – смесь ванили с корицей плюс те пряные арабские духи, которые она воровала у своей матери, – я без труда мог воссоздать в памяти упругую твердость ее соска и горячую влажность ее губ, но при всем при этом подсознание, заведующее визуальной частью сновидений, отказывалось показать мне реальный портрет – Шурочка никогда не являлась мне в своем истинном виде.
Шурочка снилась в виде других женщин. Более поздних и менее интересных. В виде моей китайской жены, под личиной соседской стервы-лесбиянки с невоспитанным ротвейлером, иногда притворялась одной из моих студенток. Пару раз была негритянкой. Один раз – старым одноногим рыбаком-поляком, у которого я покупаю креветки на Бруклинском базаре.
Фоном служили невнятные пейзажи или неубедительные интерьеры, наполненные символической чепухой вроде часов без стрелок, бесконечных коридоров, узких кроватей, шатких табуреток. В том тягучем воздухе, который обычно наполняет такого рода сны, я неуклюжими пальцами срывал с Шурочки покровы, маски, парики. Шелушил ее как луковицу. Но никогда не мог добраться до истинной Пуховой. Ни разу.
Теперь к сути. Я не хотел иметь детей. Мы поженились слишком рано, мы сами были детьми. По крайней мере я. Мое сиротство и тетушкина опека продлили мой инфантилизм. Мне и сейчас кажется, что я еще не вырос в настоящего мужчину. Что мне около семнадцати. Я не дурак, я научился притворяться – голос, манеры, внешность весьма убедительны. Мне удалось провести всех: бывших жен и любовниц, студентов и коллег, приятелей и тех, кого называют друзьями. Всех, кроме себя. Кроме себя и, конечно, Шурочки.
Минули годы. Сказочным манером мы снова вернулись к началу игры, и вновь на руках у меня неплохие карты – тройка, семерка, туз. Но правила игры кто-то подкорректировал, а главное, изменились ставки. Годы не прибавили мудрости, а вот азарт угас, бесшабашность сменилась осторожностью, на место решимости пришла трусость. А вдруг это последняя сдача? И отыграться уже не выйдет? Я лежал и чувствовал, как в темную пустоту моей души, где когда-то горел огонь, медленно втекает ледяной страх.