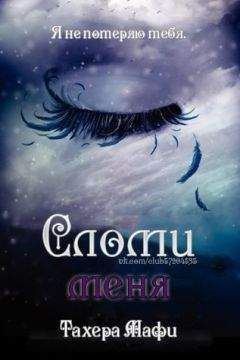Я подхватываю его на руки, и он визжит. Я отношу его в дальний угол комнаты.
— Адди…
Я накидываю ему на голову одеяло.
Джеймс кричит и борется с одеялом до тех пор, пока ему не удается стянуть его с себя и сбросить на пол. Его лицо покраснело, он сжал кулаки и, наконец — то, разозлился.
Я начинаю смеяться. Ничего не могу с собой поделать.
Джеймс настолько сильно расстроен, что ему приходится практически выплевывать слова, когда он говорит.
— Кенджи сказал, что я имею точно такое же право знать о том, что здесь происходит, как и все остальные. Кенджи никогда не злится, когда я задаю ему вопросы. Он никогда не игнорирует меня. Никогда не бывает со мной груб, а ты г — груб со мной, и мне не нравится, когда ты с — смеешься надо мной…
Голос Джеймса срывается, и только сейчас я поднимаю на него глаза. Я замечаю, что по его щекам заструились слезы.
— Эй, — говорю я, пересекая комнату. — Эй, эй, — я сжимаю его плечи, опускаясь на одно колено. — В чем дело? Что за слезы? Что случилось?
— Ты уходишь, — Джеймс икает.
— Оу, перестань, — я вздыхаю. — Ты ведь знал, что я уйду, правда? Помнишь, как мы с тобой обсуждали это?
— Ты погибнешь, — Джеймс снова икает.
Я поднимаю бровь, смотря на него.
— Не знал, что ты умеешь предсказывать будущее.
— Адди…
— Эй…
— Я же не зову тебя так перед остальными! — говорит Джеймс, протестуя и лишая меня шанса сделать то же самое. — Не знаю, почему это так сильно злит тебя. Ты говорил, что тебе очень нравилось, когда мама звала тебя Адди. Почему же мне нельзя так тебя называть?
Я снова вздыхаю, поднимаясь на ноги, и параллельно теребя его волосы. Джеймс издает приглушенный звук и отодвигается от меня.
— В чем дело? — спрашиваю я.
Я приподнимаю свою штанину для того, чтобы закрепить под ней в кобуре полуавтоматический пистолет.
— Я уже давно являюсь солдатом. И ты всегда знал обо всех рисках. Что изменилось сейчас?
Джеймс молчит достаточно долго для того, чтобы я заметил это. Я поднимаю голову.
— Я хочу пойти с тобой, — говорит он, вытирая нос дрожащей рукой. — Я тоже хочу сражаться.
Мое тело напрягается.
— Не начинай снова.
— Но Кенджи сказал…
— Меня совершенно не волнует то, что сказал Кенджи! Ты — десятилетний ребенок, — говорю я. — Ты не будешь сражаться ни на какой войне. И не пойдешь на поле боя. Ты понял меня?
Джеймс смотрит на меня.
— Я сказал: ты понял меня? — я иду прямо к нему, беру его за руки.
Джеймс слегка вздрагивает.
— Да, — шепчет он.
— Что "да"?
— Да, сэр, — говорит он, смотря в пол.
Я дышу настолько тяжело, что моя грудь вздымается.
— Никогда больше, — говорю я уже тише, — мы не будем заводить эту беседу. Никогда.
— Хорошо, Адди.
Я сильно сглатываю.
— Прости, Адди.
— Обувайся, — я смотрю на стену. — Пора завтракать.
— Привет.
Джульетта стоит возле моего стола, смотря на меня так, словно что — то, возможно, заставляет ее нервничать. Словно мы никогда не делали этого прежде.
— Привет, — говорю я.
Моя грудь все еще начинает болеть даже тогда, когда я просто вижу ее лицо, но, по правде говоря, я больше понятия не имею о том, что между нами происходит. Я пообещал ей, что найду способ преодолеть это — и я чертовски усердно тренировался, действительно тренировался, — но я не собираюсь лгать: мне слегка не по себе после того, что случилось вчера. Дотрагиваться до нее гораздо опаснее, чем я полагал.
Она могла бы убить Кенджи. Я все еще не уверен в том, что она этого не сделала.
Но даже после всего этого я по — прежнему хочу того, чтобы у нас с ней было совместное будущее. Мне хочется знать, что когда-нибудь мы сможем остановиться в каком-нибудь безопасном месте и быть там вместе, в покое. Я еще не готов отказаться от этой мечты. Я еще не готов сдаться и распрощаться с нашими отношениями.
Я киваю головой в сторону пустующего места.
— Не хочешь присесть?
Она садится.
Какое — то время мы сидим в тишине, она ковыряет вилкой в своей еде, а я — в своей. Обычно наш утренний рацион один и тот же: ложка риса, миска овощного бульона, кусок черствого хлеба, в хорошие дни — небольшая тарелочка с пудингом. Не самый потрясающий рацион, но его, как правило, хватает, и обычно мы благодарны за это. Но сегодня ни у одного из нас, кажется, нет аппетита.
И голоса.
Я вздыхаю и смотрю в сторону. Не знаю, почему мне сегодняшним утром настолько сложно разговаривать с ней — может быть, из-за отсутствия Кенджи, — но в последнее время все между нами как-то изменилось.
Я очень сильно хочу быть с ней, но никогда еще это не казалось мне таким опасным, как сейчас. Кажется, что с каждым днем мы все больше отдаляемся друг от друга. И иногда я думаю, что, чем сильнее я пытаюсь удержать ее, тем больше она пытается вырваться.
Мне хочется, чтобы Джеймс поспешил и взял уже свой завтрак. Все было бы проще, если бы он был здесь. Я выпрямляюсь и осматриваюсь по сторонам, замечая, как он разговаривает с группой своих друзей. Я пытаюсь помахать ему, но он над чем — то смеется и даже не замечает меня. Он потрясающий.
Он очень коммуникабельный — и он пользуется здесь настолько большой популярностью, что я иногда даже задумываюсь о том, откуда в нем это. Во многом он является полной противоположностью мне. Ему нравится подпускать к себе людей, а мне нравится держаться от них подальше.
Джульетта — единственное настоящее исключение из этого правила.
Я снова смотрю на нее и замечаю красноту, окаймляющую ее глаза, которые осматривают столовую. Она выглядит одновременно и бодрой, и безумно уставшей, и ей, кажется, никак не удается сидеть на своем месте спокойно; она быстро постукивает ногой под столом, а ее руки немного дрожат.
— Ты в порядке? — спрашиваю я.
— Да, в полном, — отвечает она слишком поспешно. Но качает своей головой.
— Ты, эм, выспалась минувшей ночью?
— Да, — говорит он, повторяя свой ответ несколько раз. Она делает это время от времени — повторяет одно и то же слово снова и снова. Не знаю, осознает ли она вообще, что делает это.
— А тебе хорошо спалось? — спрашивает она. Она барабанит пальцами по столу, а затем по своим рукам. Она продолжает оглядываться по сторонам. Она снова начинает говорить, не дожидаясь моего ответа. — Ты уже слышал что — нибудь о Кенджи?