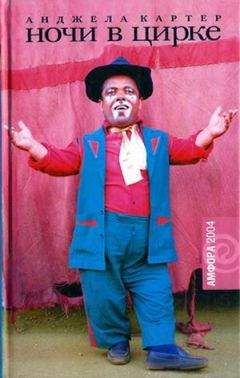Его звали Джек Уолсер. Родом он был из Калифорнии, с другого конца света, скитаниям по всем четырем сторонам которого он посвятил большую часть своих двадцати пяти лет. Это авантюрное занятие стесало, впрочем, все заусенцы его характера; манеры его ныне отличались безупречностью, и в облике уже нельзя было разглядеть бездельника и лоботряса, который когда-то «зайцем» отправился на пароходе из Сан-Франциско в Шанхай. За время путешествий он открыл в себе литературный талант и еще более развитую способность оказываться в нужном месте и в нужное время. Так был решен вопрос о выборе профессии. Уолсер уже сдал свою рукопись в одну нью-йоркскую газету, чтобы иметь средства к существованию и, соответственно, возможность путешествовать, куда ему заблагорассудится, пользуясь журналистской безответственностью и необходимостью все видеть и ничему не верить: качество, замечательно сочетавшееся в личности Уолсера с типично американской склонностью к беззастенчивому вранью. Его профессия устраивала его во всех отношениях, и он за нее крепко держался. Уолсера можно было бы назвать Измаилом,[5] но Измаилом с банковским счетом, помимо которого имелись еще густая копна непослушных соломенных волос, румяное, широкое лицо с правильными чертами и скептическое выражение холодных стальных глаз.
И все же в нем угадывалась какая-то незавершенность. Уолсер напоминал внушительный меблированный дом, сданный в аренду. В нем трудно было определить незначительные, но, что называется, характерные черты личности, словно привычка не торопиться с доверием распространялась и на него самого. Да, он умел «оказаться в нужном месте и в нужное время», но, кажется, сам был «потерянной вещью», ибо, на взгляд субъективный, себя так и не нашел, поскольку собственное «я» не было предметом его поиска.
Он вправе был называть себя «человеком действия». Он подвергал жизнь череде разрушительных потрясений, потому что любил послушать постукивание своих костей и таким образом определить, что еще жив.
Уолсер пережил чуму в Сечуане, удар копья в Африке, содомию в шатре бедуинов на обочине дамасской дороги и много чего еще, но все это почти не отразилось на незримом ребенке внутри мужчины, так и оставшимся бесстрашным подростком, который когда-то проводил все свое свободное время на рыбацкой пристани, с жадностью пожирая глазами сплетения парусов, пока однажды не отправился навстречу далекому горизонту. Уолсер словно не замечал своего опыта; опыт разве что шлифовал его внешнюю оболочку, внутренняя же сущность так и осталась нетронутой. Ни разу в своей жизни он не испытывал потребности в самоанализе. Он ничего не боялся, но не потому, что был храбрым; как мальчик из сказки, не знавший, как дрожать от страха, Уолсер не знал, как бояться. По этой причине его тяга к свободе не была нарочитой, она не была результатом оценки, ибо оценка предполагает наличие притяжения и отталкивания.
Уолсер был калейдоскопом, наделенным сознанием, и именно поэтому он стал прекрасным репортером. Однако по мере вращения калейдоскоп постепенно изнашивался; ни война, ни бедствия не сумели довести его до того самого горизонта, что когда-то казался смыслом его будущего, и теперь, обессиленный схваткой с лихорадкой, он постепенно успокаивался, сосредоточившись на тех аспектах человеческой деятельности, которые раньше от него ускользали.
Как хороший репортер, он, конечно же, собаку съел на всякого рода преувеличениях. И вот решил пообщаться в Лондоне с Феверс для серии интервью с предварительным названием «Знаменитые аферы мира».
Его простые и незатейливые американские манеры нашли себе достойного партнера в лице сидящей перед ним воздушной гимнастки, которая в этот момент переместила тяжесть своего тела с одной ягодицы на другую («Лучше на волю, чем в себя!») – и зычно на всю комнату пернула. Глянув через плечо, она отметила его реакцию на это. Под маской «озорного малого» (или малой?) Уолсер заметил ее настороженность и белозубо осклабился в ответ. Ему приятна была такого рода доверительность.
Во время европейского турне Феверс парижане стрелялись из-за нее «косяками»; не только Лотрек,[6] но все постимпрессионисты боролись за право написать ее портрет; Вилли[7] угостил ее ужином, а она угостила Колетт[8] хорошим советом. Альфред Жарри[9] предложил ей руку и сердце. Когда Феверс прибыла на вокзал в Кёльн, восторженная толпа студентов распрягла лошадей и тащила экипаж до самого отеля. В Берлине ее фотографии висели в каждом газетном киоске рядом с кайзером. В Вене воздушная гимнастка взбудоражила сны целого поколения, которое тут же беззаветно ударилось в психоанализ. Где бы она ни появлялась, пресса пророчила разверстые реки, угрозу войны, солнечное затмение, ливни из лягушек и башмаков, а король Португалии подарил ей скакалку из овальных жемчужин, которую она тут же заложила в ломбард.
Теперь весь Лондон лежал у ее летящих ног; и не утром ли такого же октябрьского дня, не в этой ли гримерке мюзик-холла «Альгамбра» среди грязного нижнего белья она подписала шестизначный контракт на Императорское турне сначала по России, а потом по Японии, во время которого она приведет в изумление не одного императора? Из Иокогамы она отправится в Сиэтл – первый город ее Демократического турне по Соединенным Штатам.
Ее появлению будут рукоплескать в каждом штате, и это совпадет с началом нового века.
Ибо сейчас мы – в самом кончике окурка дотлевающего девятнадцатого века, который вот-вот сомнут в пепельнице истории. Это последнее, угасающее время года тысяча восемьсот девяносто девятого от Рождества Господа нашего, и успех Феверс возвещал о приближении новой эры, которая вскоре вступит в свои права.
Очевидно, Уолсер был здесь для того, чтобы задуть ее и, если это вообще по-человечески возможно, – взорвать. Только не подумайте, что с раскрытием этой мистификации наступит конец ее выступлениям – как бы не так! Она – вне подозрения – о чем же тогда речь? Какие новости?
– Еще глотнете? – она вытащила капающую бутылку из чешуйчатого льда.
Следует заметить, что в тесном помещении она напоминала скорее ломовую кобылу, чем ангела. Под два метра ростом, она вполне могла бы презентовать Уолсеру пару дюймов, чтобы немного с ним сравняться, и, хотя и говорили, что она «божественно высока», здесь, вдали от манежа, в ней не было ничего божественного, разве что на небесах были бы питейные дворцы, у входа в которые она восседала бы за стойкой бара. Лицо ее, широкое и овальное, как блюдо для мяса, было как будто вылеплено из грубой глины на гончарном круге; привлекательность ее была совершенно лишена утонченности: как если бы она играла роль демократически избранного небесного создания надвигающейся эпохи Человека Обыкновенного.