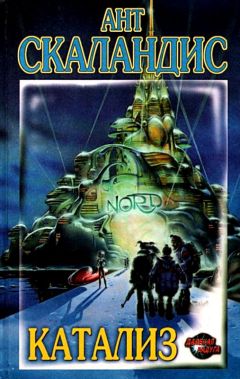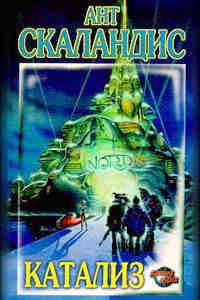— Не последний, Любомир, просто… прощальный вечер.
— Я хотел сказать последний вечер перед нашей экспедицией, — неуклюже соврал Любомир.
И Женька с мрачной откровенностью высказался за всех:
— Мы поняли, что ты хотел сказать.
Потом угрюмый настрой постепенно рассеялся в полном соответствии с количеством выпитого, но эпизод этот запал Брусилову в душу, и он весь вечер не мог отделаться от впечатления раздражающей несообразности, несоответствия всех остальных произносившихся тостов тому страшному, что так неотвратимо надвигалось на мир.
А тосты поднимались бодрые: за успех экспедиции, за здоровье участников, за хозяев дома, за гостей, ну и конечно, персонально за Эдика Станского и за его изобретение — антропоантифриз или сокращенно — анаф.
Эдику исполнилось уже тридцать семь, и впору было называть его Эдуардом Исааковичем, тем более теперь, когда он защитил докторскую (не будучи, кстати, кандидатом), однако был он парень простой, свой в доску, и для всего института так и оставался Эдиком Станским. Анафу исполнилось только два года, но он уже успел совершить революцию в биологии и медицине. Гибернация, или криоконсервирование, или анабиоз, или, наконец, совсем по — простому — замораживание людей с последующим воскрешением — из фантастики превратилось в реальность благодаря этому чудодейственному препарату.
Анаф, нагретый до температуры тела или чуть выше, вводился в кровь и, быстро проникая во все ткани, делал человека незамерзающим. Вода с растворенным в ней анафом не кристаллизовалась, а просто густела, не меняя объема. Кроме того, сам анаф обладал консервирующим действием и интенсивно тормозил биологические процессы еще при плюсовой температуре. А ниже нуля человек начинал терять сознание. Субъективно это воспринималось как прием дозы снотворного.
Гибернация с помощью анафа была идеально обратима, для возвращения организма в нормальное состояние требовалось лишь прогреть тело минимум до плюс десяти градусов по Цельсию. Да еще — принять внутрь таблетку постанафина для ускорения вывода из организма продуктов разложения анафа. Все эти свойства антропоантифриза были как нельзя более кстати для гибернации не только в специальных глубоко охлажденных резервуарах, на длительное время, но и для краткого замораживания в походных условиях. Так что в первую очередь анаф-гибернация призвана была спасать зимних путешественников от голода, болезней, ранений, наконец, просто от замерзаний. Разумеется, подумывали уже и о космосе, о межзвездных полетах. Заинтересовались изобретением Станского хирурги: как универсальный наркоз и одновременно кровоостанавливающее средство, для них он должен был стать просто манной небесной. И это только то, что лежало на поверхности, а дальше открывались ну прямо сверкающие перспективы.
Уже проводились опыты на людях и по глубокой, и по субнулевой гибернации (в безвредности анафа Станский убедился сначала на собственной шкуре); уже существовали и различные конструкции криокамер, и различные проекты применения анаф-гибернации, и самые разные взгляды на моральные, социальные, политические аспекты проблемы замораживания человека. Но мир, по сути, еще только готовился к надвигающемуся гибернационному буму. Открытие Станского еще только начинало овладевать умами людей. Однако принято оно было с таким энтузиазмом, будто каждый отчаянно стремился, если не сегодня, то хотя бы завтра, залезть в холодильник и отсидеться там до лучших времен.
Мир, вознамерившийся стать одной огромной морозилкой, ждал ответов на свои вопросы, и один из этих ответов должна была дать экспедиция Чернова, первая экспедиция гибернатиков — субнулевиков.
Перед четверкой испытателей стояла очень трудная задача. Высаженные из вертолета на дрейфующие льды примерно в четырехстах километрах от Северного полюса, они должны были выйти к нему, разбить там лагерь, вколоть себе анаф и, установив радиостанцию на автоматику, ожидать вертолета с большой земли. Предполагалось оставить их в состоянии анабиоза лишь на сутки, но, на случай непредвиденных обстоятельств (подвижка льдов, белые медведи и прочее), каждый путешественник должен был поместить свое тело в решетчатый, складной и чрезвычайно прочный контейнер из специального ярко-розового пластика. Контейнеры все четверо единодушно и сразу окрестили гробами, и это мрачноватое название приклеилось к ним намертво. Наверное, настоящие полярники не стали бы так шутить — у людей, чья работа сопряжена со смертельным риском, не принято говорить о смерти, — но среди отчаянных гибернатиков не было ни одного полярника.
Таков был замысел Станского: испытать анаф в ситуации, максимально приближенной к несчастному случаю. И здесь нужны были именно непрофессионалы. Что и говорить, замысел выглядел более чем смелым, почти безумным, и если на экспресс-подготовку группы ушел год, то едва ли не вдвое больше понадобилось Станскому на то, чтобы, даже при активной поддержке покровительствовавшего ему академика с мировым именем, пробить именно такую экспедицию. Эдик везде и всюду, начиная со своих друзей и кончая самыми высшими кругами, упорно твердил, что сумасшедший бросок на полюс с исчезающе малой вероятностью успеха и почти обязательной аварийной ситуацией, из которой испытателей гарантированно вызволит анаф-гибернация, необходим, абсолютно необходим для науки.
Но Брусилов всегда догадывался, что истинной причиной настойчивости Станского было его честолюбивое стремление самому, непременно самому испробовать в действии, в жизни, в реальных критических обстоятельствах собственное — он был уверен в этом — гениальное изобретение. А еще могло быть и так, думал Брусилов: от предчувствия всеобщего гибернационного бума в Эдике заговорила совесть ученого, «синдром Оппенгеймера», и, чтобы забыться, потянуло на острые ощущения, потянуло на белый кошмар безнадежного путешествия во льдах. И Станскому разрешили пойти научным руководителем группы, в состав которой вошли Андрей Чернов — командир, мастер спорта по лыжным гонкам, Любомир Цанев — врач, кандидат в мастера спорта по плаванию и Евгений Вознесенко — радист, кандидат в мастера по боксу. Сам Станский в прошлом был неплохим бегуном и в период подготовки к экспедиции сумел выполнить второй разряд на средних дистанциях — это в его-то годы! Словом, никто из них не мог пожаловаться ни на выносливость, ни на закалку. Что, впрочем, не исключало риска. Риск был огромен. Они старались скрывать это, но сами хорошо понимали всю меру опасности. Они шли на риск сознательно. И когда в компании близких друзей бывали откровенны, оказывалось, что Эдик просто не думает об опасностях, а думает лишь о науке и о своих успехах в ней; оказывалось, что Цанев, обрусевший болгарин, родившийся в Москве и не знавший ни слова по-болгарски, идет не только на риск, но и ради риска, видя в нем, в риске, единственный смысл своей дурацкой жизни («Такой врач, как я, не нужен настоящей медицине, а такая медицина, как у нас, не может воспитать настоящего врача», — бывало, повторял он); оказывалось, что Женьке просто-напросто надоело все на свете, и, наконец, оказывалось, что Чернов, по прозвищу Рюша Черный, готов из одного лишь спортивного интереса — а это для него был интерес высший — идти не то что на полюс, а куда угодно: хоть на Эверест, хоть под пули афганских душманов, хоть к черту в пекло — главное, испытать себя.