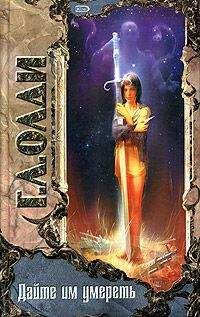Он поморщился, пытаясь представить легконогую Еву, каждый шаг которой казался началом танца, — горничной, застилающей постели в бунгало.
— Необязательно. Здесь недалеко колония, вроде как энтузиасты. Изучают драконов, охраняют от браконьеров, восстанавливают растения на месте заброшенных шахт. Если они согласились принять меня, то молодые и сильные…
— Мы уже подписали контракт на этот сезон. Я ведь говорил.
— Так глупо, мальчик… — Бим-Бом зачерпнул песка; посмотрел, как между пальцами выскальзывают песчинки. — Так…
— Что глупо? — разозлился Ад.
— Знаешь, только человек умеет строить клетки. Так глупо, что в первую очередь, он запирает в эти клетки себя самого…
— Ты предлагаешь вот так, ни с того, ни с сего, разорвать контракт, заплатить неустойку, уйти из цирка — в никуда?! Это Ева с тобой говорила, да?
— …И самое скверное даже не то, что постепенно к клетками привыкают… а то, что начинают считать их своим домом… — Злость Ада неожиданно утихла под грустным взглядом Бим-Бома. — Раньше ты был совсем другим, мальчик… Знаешь, ты заплакал, когда впервые увидел, как бьют хлыстом новичка-дракона. Не потому, что испугался, а потому что пожалел зверя. Я виноват, что позволил отдать тебя в этот номер… И Еву… Тогда мне казалось, что я ничего не могу сделать… И теперь, видно, тоже — ничего не могу…
— Думаешь, Ева несчастлива со мной? — помолчав, хрипло спросил Ад.
Бим-Бом вздохнул и отвел глаза.
Когда Ад поднялся, Бим-Бом ухватил его за руку.
— Пожалуйста, — попросил он непривычным умоляющим голосом: — пожалуйста, мальчик… если ты сам не хочешь или не можешь уйти… выпусти ее…
Ночь пахла волосами Евы, ее дыханием и кожей. Горечь и сладость; миндаль, гвоздика и душистый перец — драгоценные ароматы, которые теперь удается вдохнуть немногим счастливчикам. Когда старая Земля, многие тысячелетия старательно превращаемая в ад, умерла — вместе с ней умерли и многие земные растения, казалось уже прижившиеся на других планетах. Оставшиеся экземпляры стали диковинкой; а многие цветы и плоды — роскошью, доступной только богачам.
— Ты хотела бы остаться? Здесь, вместе с Бим-Бомом? — спросил Ад.
— Без тебя?
Ева отстранилась, уперлась локтями в его грудь — будто хотела разглядеть глаза Ада в кромешной темноте. Он ждал, стараясь дышать спокойно.
— Без тебя — нет. Нигде. Даже в раю. Тем более — в раю. Как ты мог подумать…
— Я тоже люблю тебя, — хрипло сказал он, обнимая строптиво напрягшиеся Евины плечи; прижимая ее к себе.
— Больше, — Евин шепот обжег дыханием шею: — Ты сам знаешь, это больше, чем любовь.
Ад слушал, как рядом с его сердцем торопливо колотится Евино, и думал, что только так — рядом с Евой, чувствует себя цельным. Живым, настоящим. И, наверное, поэтому, он, не оборачиваясь, чует каждое движение и вздох танцующей на проволоке Евы.
— Да, — отозвался он.
— А ты… ты думаешь, что нам нужно возвращаться?
— Мы ведь подписали контракт на этот сезон, верно?
— Конечно, — помолчав, тихо согласилась Ева. Высвободилась из его рук, соскользнула с кровати — и сейчас же растаяла в темноте. Ад потянулся за ней и замер. На минуту, ужалившую висок торопливым биением пульса, этот, разделивший их шаг, показался опасным и почти невозможным. Будто в босые ступни врезалась невидимая проволока, а в лицо дохнула пропасть с вонючим песком арены на дне…
***
После возвращения цирк показался другим — будто вылинял, потускнел и уменьшился. Огромные буквы названия «Парадиз», переливающиеся разными цветами, выглядели аляповато и пошло. От резких запахов города щипало в носу и в горле. Зрительный зал пах еще хуже — потом, духами, страхом, жадным любопытством.
Ад постоял возле клеток, разглядывая тварей — и вспоминая прекрасных крылатых существ, паривших в синеве неба. Один из драконов умер — в неволе обычно звери жили недолго. Только серая старуха держалась уже много лет — будто ненависть, тлеющая в прищуренных глазах, давала ей силы жить.
На замену умершему директор добыл у браконьеров дикаря. Новичок шумно ворочался в тесной затененной клетке, шелестел необрезанными крыльями. Иногда Аду удавалось разглядеть в полумраке блестящий испуганный глаз.
Когда он узнал о сумасшедшей затее Евы, было поздно. Директор загорелся новой идеей — Ева умела убеждать — и не стал слушать никаких возражений.
— Представляешь, как это будет красиво, — мечтательно говорила Ева, и в ее глазах Ад видел отражение радужных крылатых красавцев, плавающих в синеве неба.
Ад уговаривал; умолял; объяснял, что не зря драконам обрезают крылья перед дрессировкой; и что Евина задумка — дурость и самоубийство. Выдохнувшись, разозлившись и отчаявшись, он попробовал представить, что сказал бы сейчас Бим-Бом.
— Ты забыла, что здесь не настоящее небо, а крашеные тряпки и голография.
Но этого Ева тоже не услышала.
Репетиции проходили на диво хорошо. Новенький послушно взлетал, не делая попыток напасть на Еву, и кружил под куполом цирка. Помощники, назначенные Аду, скучали. Старые звери, сдержанные световыми клетками, волновались, задирали головы и следили за полетом. Директор восхищенно цокал языком и мучил осветителей, не умевших как следует показать сияние радужной чешуи дикаря.
Наверное, новенького испугал грохот зрительного зала. Зверь отпрянул назад, сорвался с башни раньше времени; забился, запутавшись в привязи. Чего-то подобного следовало ожидать — Ева успела уклониться, удержаться на проволоке, не забывая осыпать зрителей сияющими улыбками; Ад быстро распутал привязь — выпустил новенького лететь вверх, подальше от криков и аплодисментов. Всего несколько секунд задержки были теми самыми секундами, которых уже много лет ждала серая старуха. Она прыгнула со своей башни, целясь в Еву раскоряченными когтистыми лапами. И не промахнулась.
На рассвете, перед тем как уйти из цирка, Ад прокрался в зверинец. Два хлыста, взведенных на максимум, потрескивали и дрожали в его руках. Серая старуха с усилием подняла морду, исполосованную шрамами и свежими рубцами. В ее взгляде Аду почему-то почудилось облегчение.
Ад, кусая губы, постоял напротив клетки. Потом отшвырнул хлысты и распахнул дверь.
— Ну! — сказал он старухе. — Мы превратили ваш рай в ад. Теперь можешь убить меня за это. Ты всегда хотела так сделать, да?
Они так и не стали выходить из открытых клеток. Взволнованно потоптались у выхода — будто там была невидимая граница, которую они не могли или не хотели переступать — и вернулись на привычные места. Калеки, осознающие свое уродство и невозможность вернуться в потерянный рай.