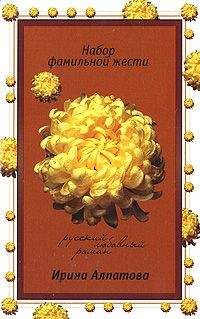– Мать – это которая?
– Да вон старушка в синих клееных итальянках. Правее, еще правее... Аккуратнее смотри! – с тем неестественно равнодушным заговорщицким и потому сразу выдающим видом, с которым говорят или указывают на тех, кто стоит рядом, сказал Шкаликов.
– А-а, вижу... Говорят, все зубы ему повышибало, – сказал Леванчук, испытывавший острую потребность в обсуждении подробностей и обстоятельств произошедшего.
Он получал теперь странное удовольствие, состоявшее в том, что сам он был жив, хотя ездил ничуть не меньше, а может даже и больше (как ему теперь казалось) покойного Гриши Бубнова. Больше всего Леванчуку теперь хотелось воскликнуть: «А ведь вместо Гришки меня могли послать, меня! Смотрите, а я-то не разбился и даже не боюсь совсем. Вчера вон ездил и позавчера, уже после этого. Разве я не молодец?» Но он понимал, что об этом нужно молчать и только говорил постоянно о смятом лице Бубнова.
Шкаликов посмотрел на Леванчука неодобрительно, но одновременно не удержался и вступил в сплетню:
– Зубы, йоопп? Челюсть всю оторвало... А ты зубы, зубы... Так-то вот!
– Тцы-тцы-тцы... – печально поцокал Леванчук, хотя узнал об этом еще позавчера.
Он-то, собственно, первым принес в офис это известие, но теперь почему-то решил забыть об этом. Более того, посланный забирать разбитую машину с пункта ДПС и выручать остаток товара, он лично видел залитое кровью сидение и маленький, нелепый, непохожий совершенно ни на что кусочек трубчатой кости на коврике. Этот нелепый случайный осколок удивил и испугал Леванчука куда больше, чем сегодня все мертвое большое тело, лежащее в гробу. Этот трубчатый кусочек и была сама смерть, а тело... тело было нечто другое и оно почему-то не вызывало у Леванчука ни брезгливости, ни ужаса, а одно лишь острое желание заглянуть под покрывало.
Почему-то ему припомнилось, как в прошлом году перед Новым годом он шел от метро и видел, как мужик продавал из багажника «Волги» молочных поросят, ужасающе синих, покрытых легкой пачкающей чернотой паленой щетины. Некоторые поросята были разрублены пополам, от головы к хвосту, и видно было всё, что бывает внутри: кишки, легкие, сердце и тонкая, очень тонкая пленка, выстилавшая изнутри желудок. Кроме того, у части поросят были крошечные половые органы, скрытые в складках, с мешочком яичек, а во ртах синели первые, почти прозрачные зубы.
Вот таким вот диковинным, только несъедобным и непродажным поросенком и представлялся теперь Леванчуку покойный, которому он остался должен около тридцати долларов и не собирался теперь их отдавать.
Полуян, едва заметно покачиваясь с носка на пятку, продолжал изучение гроба, начатое еще в храме при отпевании. Гроб был скромный, без ручек, лакировки и двойной откидывающейся крышки, позволяющей открыть отдельно лицо покойного. Но оббивающая его материя была плотной, и траурные цветы из тесьмы нашиты крепко и добротно. Он вспомнил, что тесть в автобусе упоминал, что в каталоге гроб значился как «ветеранский». Дескать, его, Лямина, смутило сперва слово «ветеранский», но потом он все равно выбрал его, как самый приличный из всех в эту цену.
– И потом ведь Гриша не любил форсу! Я знаю, ему там на небе этот гроб нравится! Он на него с тучки любуется... – говорил он, значительно вытирая глаза.
И, несмотря на явно всеми ощущаемую наигранность этой фразы, никто почему-то не улыбнулся. Напротив, все были тронуты.
Тогда же Полуян, сидевший на тряской боковушке прямо напротив гроба, воспользовался случаем и с уместно печальным выражением провел рукой по крышке. Под траурными изгибами тесьмы он ощутил одну маленькую и одну довольно большую щель. Доски были шероховатыми, не знавшими рубанка. «Сколотили кое-как и тряпкой обтянули. Тут работы и на двести рублей нет», – прикинул он, взвешивая преимущества похоронного бизнеса перед бизнесом обувным.
Из конторы мелкой рысью выскочил Фридман и позвал вдову. Нужно было что-то уточнить. Вдова, оглянувшись, нерешительно пошла. Заплаканная мать, встрепенувшись, бросилась следом с видом, который бывает у людей, которым нужно кого-то охранять или за кого-то вступиться. Она догнала невестку на ступенях и проскочила в дверь прежде нее и отступившего поспешно Фридмана.
– И теперь за свое... Не разберутся без нее... не звали же скотину! – раздраженно и громко пробормотала сестра жены.
Провожающие уместно потупились. Никто ничего не расслышал, тем более что родственников со стороны усопшего больше не было.
Сослуживцы отошли от гроба поглядеть венки и цветы. Полуян неожиданно для себя купил две хризантемы, расплатился крупной купюрой и долго ждал сдачу. «Она, кажется, отслюнявливает мне самые грязные деньги, противно же...» – думал он.
Из конторы, широко размахивая свободной рукой, появился Лямин, несущий металлическую табличку. За ним, придерживая под руку мать, семенил Фридман с растерянно-жалким лицом. Замыкала шествие вдова, рядом с которой, дожевывая что-то на ходу, бойко шагал маленький лысеватый служащий, имевший вид человека, настолько замозоленного чужим горем, что ничего уже не может пробить или потрясти его.
Шкаликов отчего-то решил, что требуется его вмешательство.
– Какие-то проблемы? – с вызовом спросил он, загораживая дорогу служащему.
Лысеватый с удивлением поднял на него свое кроличье лицо, не прекращая жевать.
– Вы о чем? – спросил он.
– Я о том! Совесть надо иметь! – еще с большим вызовом сказал Шкаликов, напирая грудью.
– Что вы, что вы... Перестаньте, ради Бога! Все отлично, замечательно... – подхватывая Шкаликова под локоть, миролюбиво забормотал Фридман.
Вдова удивленно взглянула на него. Друг детства стушевался.
– То есть я хотел сказать: всё уладилось, – пояснил он, краснея пятнами.
«Она же знает, я сказал «отлично», не потому что отлично, а потому что... Но почему я так некстати всё делаю? Или люди не оговариваются, а проговариваются?» – мучительно размышлял он, вспоминая, что на панихиде его особенно ужасало то, что там, где у покойника должен был быть нос, покрывало лежало совсем ровно, не топорщась, а на скуле его угол был скошен и резко уходил вверх, ко лбу, на котором поверх покрывала лежала еще узкая полоска бумаги с молитвой.
Когда все подходили прикладываться, Фридман тоже подошел. Стыдясь проявить брезгливость, он неуклюже поцеловал бумажку поверх слова «упокой», ощутив губами притягивающий, расползающийся холод лба...
– Везите за мной, – сказал служащий, решительно сворачивая между двух клумб.
Здесь, за цепочкой молодых елей, начинались захоронения. Между могилами шло несколько асфальтовых дорожек, вдоль которых в канавке тянулась железная труба подтекавшего водопровода.