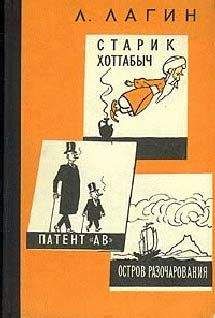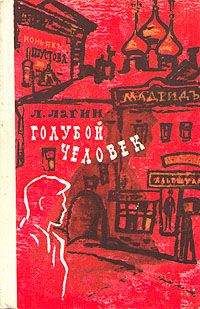Все это было для Береники, не говоря уже о вдове Гарго, волшебными и дурманящими экскурсиями в другой мир, заманчивый, но навсегда недоступный, как Марс. Трудно было привыкнуть к мысли, что рядом с ними, вот здесь, в нижней угловой комнате невзрачного домика доктора Попфа, сидит живой представитель этих прекрасных миров, живой марсианин, который скоро скова вернется на свою непостижимо далекую планету.
Падреле упивался благоговением, с каким его слушали Береника и вдова Гарго. Он был не настолько глуп, чтобы приписывать его своему красноречию, но он и не испытывал особой нужды в красноречии. За него сладчайшими голосами говорили несметные богатства, власть, роскошь, упоительное безделье, завидное и неправдоподобное отсутствие заботы о куске хлеба, о завтрашнем дне.
Только теперь Падреле-младший стал понимать, что есть люди, которых за деньги не купишь, но которых можно исподволь покорить, подавить и раздавить рассказами о деньгах и обо всем, что можно купить за деньги. Это вдохновляло его. Он обрушивал на своих слушательниц лавины воспоминаний и радовался, как ребенок, как очень испорченный ребенок, впечатлению, которое он на них производил.
Впервые в жизни Падреле чувствовал себя по-настоящему счастливым. С каждым днем заметно изменялся к лучшему его внешний облик. Кожа постепенно теряла свою нездоровую желтизну. Менялись черты и пропорции его лица, все больше приближаясь к нормальному мужскому типу, ничем не выдающемуся, но не лишенному некоторой приятности. В какие-нибудь несколько суток он вырастал из своего очередного костюма, но только в первый раз, показавшись в блузе с рукавами по локоть и в брюках, едва достигавших до щиколоток, он несколько обиделся, увидев невольные улыбки на лицах доктора Попфа и обеих дам. В дальнейшем он уже вместе с ними покатывался с хохоту и счастливо выкрикивал:
— Расту! Ужасно быстро расту!..
Он все время находился в приподнятом настроении, которое обе женщины доверчиво принимали за природное добродушие. Ему не сиделось на месте. Он порывался даже помочь госпоже Гарго стряпать и госпоже Беренике шить. Получалось у него все это суматошно, несуразно, смешно, но по-мальчишески весело и непринужденно. То и дело до Попфа снизу долетали взрывы смеха, и ему было приятно, что бедняжка Береника без него не скучает.
«Погоди, моя милая, — думал он, — еще месяц-два, и мы с тобой заживем на славу! Все будет! И слава, и деньги, и свободное время! Хотя насчет времени я, кажется, маленько преувеличиваю. Особенно много свободного времени и тогда, пожалуй, не предвидится».
У доктора Попфа сейчас началась самая горячая пора, те дни, о которых он мечтал еще на студенческой скамье. Он вскакивал с постели, когда еще только занималась утренняя заря, и ложился глубоко за полночь. Трижды в день он выслушивал и выстукивал, взвешивал и производил разнообразнейшие обмеры Аврелия Падреле, вырабатывал для него рацион и меню на следующий день, уединялся в кабинете, чтобы привести в порядок материалы своих наблюдений над Падреле и тремя другими объектами, о которых подробней будет сказано в свое время. Трижды в день он так же тщательно обследовал в хлеву эти три таинственных объекта. И, наконец, насколько хватало сил и времени, он продолжал колдовать в своей лаборатории, довольный, что никто ему не мешает и что Беренике без него не очень скучно.
Он был счастлив. Чудесный препарат, над которым он столько лет работал, был уже не мечтой, а действительностью. Не годы и даже не месяцы, а недели и дни отделяли его от массового применения эликсира и от огромной — страшно подумать! — мировой славы. Одних опытов с Магарафом и Падреле было достаточно для того, чтобы открыть новую главу в истории естественных наук. Каждое свое наблюдение, каждую запись о процессах, происходящих в бурно растущих организмах Падреле и трех подопытных животных, доктор Стифен Попф заносил теперь в дневник с таким же чувством, какое испытывает золотоискатель, обнаруживший, наконец, богатейшие золотые россыпи. Он собирал столько бесценных самородков, сколько раз он находил нужным нагнуться. Нужно было только не лениться и не почесть за труд нагнуться лишний раз.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ, в которой рассказывается о горячем разговоре между доктором и Аврелием Падреле
Нам нужно вернуться назад, к третьему месяцу пребывания доктора Попфа в Бакбуке, и описать переполох, поднявшийся на местном рынке, когда приезжий доктор вдруг стал скупать бараньи, телячьи и свиные головы. Он закупал их в таких количествах, словно собирался обеспечить себя студнем на всю жизнь.
Однако доктор Попф и не думал употреблять эти головы в пишу. Из всей этой горы мяса и костей Попф оставлял для себя только несколько граммов сероватых крошечных железок, которые он, вскрывая черепные коробки, вырезал из основания головного мозга. Остальные сотни килограммов, по существу, нетронутых голов мясник за полцены принимал у Попфа обратно, и оба — и мясник, и доктор — одинаково оставались довольны сделкой. Щитовидные железы — бычьи, свиные и бараньи — Попф получал от мясника бесплатно, в виде премии.
Прошло всего несколько недель, и доктор Попф дал новую пищу для пересудов. Он приобрел сразу поросенка, бычка и ягненка.
— Он какой-то тронутый! — веселились досужие бакбукцы. — Право же, с ним опасно иметь дело. Такой может ни с того, ни с сего укусить…
Другие холодно говорили:
— Человек мечется. Нам тоже было скучновато, когда мы возвращались из университета в Бакбук. Это вроде кори, ею надо переболеть. Ничего, остепенится.
Они вспоминали про химикаты, колбочки, реторты и прочую стеклянную дребедень, которую доктор Попф привез с собой, и им было приятно думать, что провинциальная рутина засосет его с течением времени так же бесповоротно, как и их, тоже мечтавших когда-то о чистом служении науке.
— Ничего, — говорили они, — остепенится.
Доктор Попф никого не кусал, но и не остепенился. За несколько дней он закупил и свез к себе на двор около тонны сена и концентрированных кормов. Это для трех совсем юных животных, которые еще и жевать толком не научились!
Но как разинули бы рты местные кумушки и скептики, если бы узнали, что доктор Попф никому не доверяет этих недавних сосунков и возится с ними с усердием заправской скотницы, сам задает им корма, сам чистит, убирает за ними навоз, по несколько раз в сутки обмеривает их и взвешивает буквально всех и все, даже навоз.
Недели полторы неказистые стены хлева, в который Попф собственноручно переоборудовал дощатый гаражик, были молчаливыми свидетелями чудесного превращения поросенка в грузную свинью, ягненка — во взрослого барана, теленка — в представительного быка. А как-то на закате в хлеву произошла сцена, которая могла бы не на шутку обеспокоить даже тех немногих, кто верил в нормальные умственные способности нашего героя. Доктор Попф в полном одиночестве плясал в хлеву. Он хлопал в ладоши в такт своим несуразным движениям и вполголоса, чтобы его не услышали на улице, напевал: