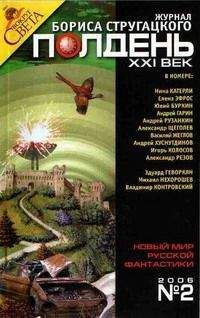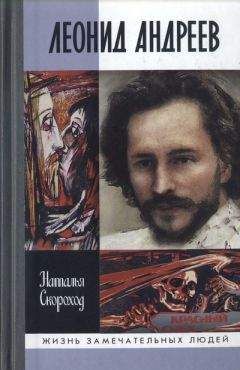Ю.
Не знаю, Юля, что думать. Честное слово – не знаю. Прочитав неимоверно апологетическую статью в газете, которую Вы прислали, я понял только одно – до своего 95-летия я не доживу, что естественно. Да и автор пишет обо мне в прошедшем времени. И слава Богу. Комментировать саму статью, а также делать предположения, откуда она взялась, не буду. Но от своего решения прекратить игру не отказываюсь. Дела тут серьезные – Хрипунова, то бишь Олина, о котором Вы печетесь, выгнали из Союза писателей и, кажется, собираются выслать из страны. Я за него спокоен – такое не тонет…
Как жить мне самому, тоже непонятно. Но это уж мои проблемы. Ясно одно – Вас здесь быть не должно. Ну, хорошо, допустим на минуту, Вы, и вправду, являетесь из будущего. Но ведь являетесь. Сюда, в поселок, к дубу… Или, как в прошлый раз, на почту. И тут Вас, как миленькую, могут схватить, и тогда не знаю уж, что будет.
Вам же наверняка известно, что какие-то молодые ребята 14 декабря пытались организовать митинг на Сенатской площади. Среди них была, кстати, и Юлия Вознесенская, и тот поэт, чьи стихи мне так понравились – про совесть. Демонстрация эта была сорвана, кого-то забрали, кому-то не дали выйти из дома – словом, приняли меры. Очень надеюсь, что Вознесенская все-таки не Вы. Надеюсь, что именно Вас я видел из окна в пуховой шапочке с ушами. Но так или иначе, если играть в эти игры, Вас могут схватить и даже убить. В конце концов, могут изрядно нагадить Вашим родным, той маленькой Юле, что приезжает на дачу Громушкиных. Все несложно сделать, было бы желание. А оно есть!
Так что не пытайтесь меня переубедить – это письмо последнее.
Всего Вам доброго, милая моя "Юля из будущего". И с приближающимся Новым годом! Пусть для Вас он будет счастливым.
Прощайте
Ваш С. 3. 20 декабря. 1975 г.
Он даже начал было писать ей ответ, чтобы положить-таки в дупло. Даже если это попадет в чужие руки или сгниет там непрочитанным – что ж…
Начал, но тут же и бросил, получалось казенно, а иначе о себе писать он не умел…
Заставский откинулся в кресле, задумался. Сухие, безжизненные слова приходили в голову. Точно анкету собрался заполнять.
Он родился в Петербурге в 1910 году. Отец, Валентин Алексеевич Булгаков, был из дворян, мелких и небогатых, мать, урожденная Шишина, – из разночинцев, дочь революционера-народника Петра Шишина. В молодости в Нижегородской губернии учила крестьянских детей и всю жизнь, будучи романтической особой, преклонялась перед народом.
Отец до революции служил репортером в "Санкт-Петербургских ведомостях", был всегда абсолютно вне политики, чему научил и сына. И до революции, и после нее писал, в основном, о культуре и о ликвидации неграмотности. Просвещение народа считал самой главной задачей государства и каждого человека, в серости видел источник всех бед – в том числе, вероятно, и октябрьского переворота 1917 года, но об этом сын догадался много позже. В 1931 году отца уже не было в живых.
Мать умерла в 1942 году в Свердловске, в эвакуации.
Сергей, как и родители, считал самым главным просвещение. Окончив в начале тридцатых педагогический институт, попросился на работу в глухую вятскую деревню, где единственным образованным человеком был сельский врач, тоже молодой романтик. Оба они, каждый на своем месте, как могли, боролись с дикостью, грязью и варварством. Сергей начал писать статьи в районную газету "Социалистическая переделка". Писал о простых вещах – о том, что детей нужно учить, а больных лечить, о гигиене, о необходимости делать прививки и обращаться к доктору, когда болен. Все без толку – народ оставался диким, новшества воспринимал с боязнью.
Незадолго до войны Сергей вернулся в Ленинград, работал учителем истории. Женился. В сорок первом ушел в ополчение, служил на Ленинградском фронте, был ранен и в 1944 году демобилизован в звании капитана. Работал в Ленинграде, в военной газете вольнонаемным… Матери уже не было.
В сорок шестом написал свою первую повесть о войне и блокаде – очень искреннюю, на его теперешний взгляд – наивную. Но честную, да. Он взял псевдоним Заставский, подписываться Булгаковым показалось неудобным. Книгу посвятил памяти матери.
С первой женой расстались еще во время войны, мирно – просто она написала ему из Ташкента, где была в эвакуации, что встретила другого человека.
Через два года после первой книги вышла вторая – "Не сдадим!" – тоже о войне, принесшая похвалы в печати и некоторую известность. Ему предложили стать членом Союза писателей, и он с радостью согласился – "Отец был бы горд. И мама".
Впрочем, успех был недолгим – грянуло "Ленинградское дело". И тут выяснилось, что в повести "Не сдадим!" автор пытается представить подвиг Ленинграда чрезмерным, выпячивает мужество ленинградцев, ставит их выше других, недостаточно пишет о роли тов. Сталина. Могли посадить, тогда сажали многих, но обошлось – просто уволили из газеты.
Он был тогда штатским и не членом партии, вообще не отличался политической активностью. Сам про себя тогда думал – так, серая мышь. И слава Богу. Надо делать свое дело, и этого достаточно. Однако нужно было на что-то жить, а работы в Ленинграде он не нашел. К тому же, "наверху" могли одуматься и все-таки арестовать. И он отправился в захолустный городок все в той же Кировской области, где лежал когда-то в эвакогоспитале, неподалеку от деревни, где в юности работал учителем. Снова преподавал историю, а потом постепенно начал писать в местную газету – все, как в прежние времена. Снимал комнату у старого доктора, хирурга, лечившего его во время ранения. Всю жизнь дружил с медиками. По вечерам играли в шахматы, гуляли по окрестностям, раскладывали пасьянсы… Природа там прекрасная, настоящая русская северная природа, которую Сергей любил всю жизнь – бесконечная тайга, река, по которой сплавляли бревна, синие лесные озера.
…Когда-то природа давала радость. Теперь радости не приносит ничто.
В 1952 году он снова женился. Женой его стала Ольга, дочь доктора, у которого он жил. Ему было уже сорок два, ей – двадцать два, работала у отца фельдшером.
После смерти Сталина и XX съезда вместе с женой вернулись в Ленинград. С работой было туго, в газеты не брали – о писателе Заставском все уже успели забыть – все, кроме разве что старых приятелей, которые служили в издательствах и журналах и давали ему рукописи-"самотек" на внутренние рецензии. Позднее – сочинения разных передовых рабочих или военачальников, написавших мемуары, которым требовалась так называемая литобработка. Жили скромно. Летом ездили в Дом творчества на Финский залив. Все те годы, что они с женой были вместе, Ольга была его единственным другом. От природы нелюдимый и замкнутый, он ни в ком больше не нуждался. Бывать на людях не хотелось. Быть дома – в городе или, позднее, на даче – с ней вдвоем всегда для него было счастьем. А для нее? Ему казалось, для нее тоже.