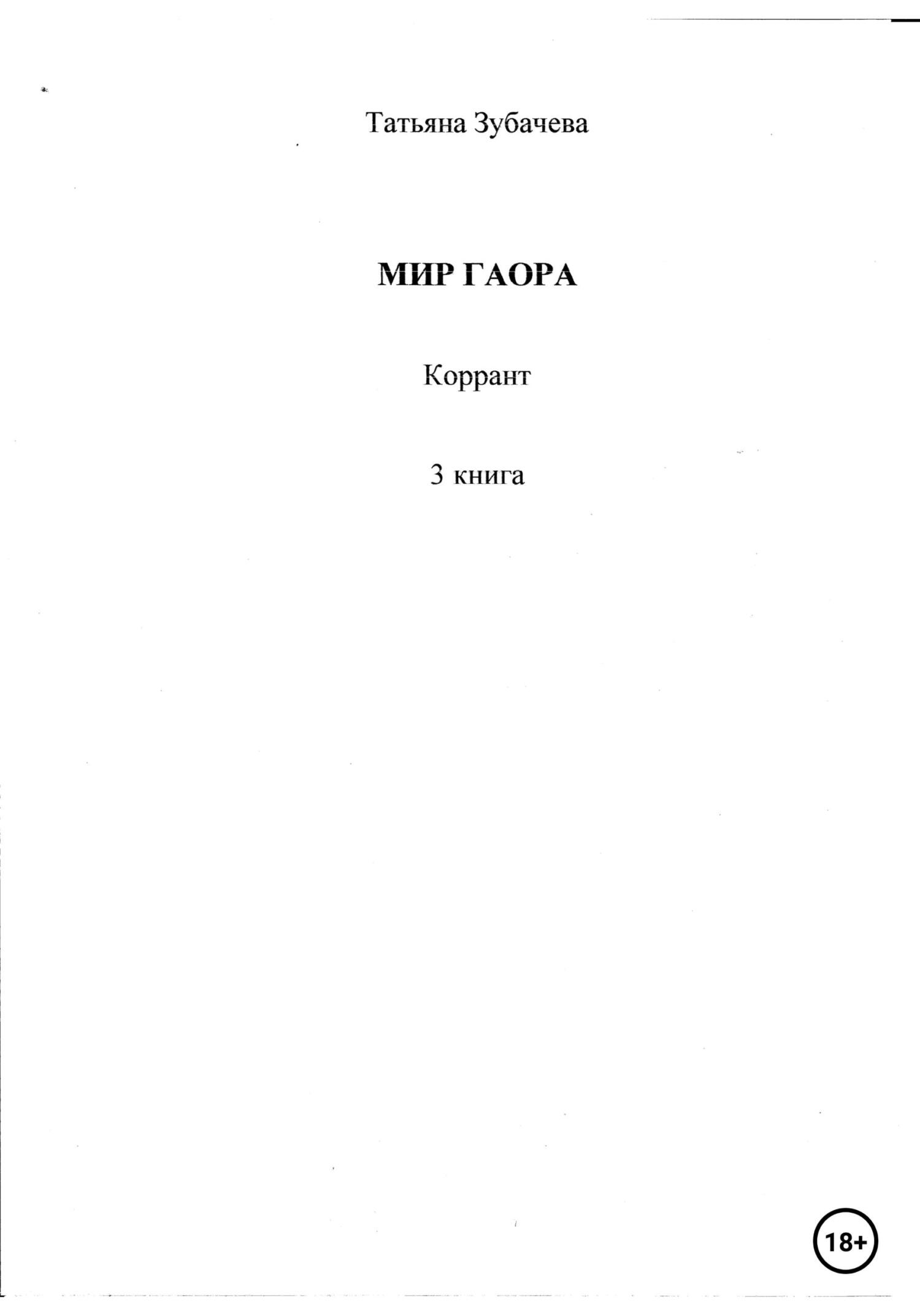class="p1">— Соскучилась? — усмехнулся Гаор и серьёзно ответил, — сегодня никак. Докурю и поеду.
— А хоть и соскучилась, — Летовка крутанулась рядом с ним, задев раздувшейся юбкой. — Когда опять-то будешь?
— Через три декады заеду заказ получить.
— Ты под вечер-то хоть приезжай, тады и заночуешь.
Гаор кивнул и честно ответил.
— Как получится.
Он с сожалением оглядел оставшийся окурок, растёр его в поставленном перед ним Горной глиняном черепке и встал.
— Спасибо за хлеб-соль да за ласку, — поклонился он Горне.
Горна и Летовка ответили на его благодарность так же традиционным поклоном, и Гаор пошёл к машине.
Управляющего не было, и машину окружало плотное кольцо ребятишек.
— Меня, меня, — наперебой закричали они, увидев Гаора, — Дяденька, меня прокати, её в тот раз катал, мой черёд!
Гаор рассмеялся и открыл дверцу. Запихав на переднее сиденье пятерых подвернувшихся под руку, он сел за руль и медленно стронул машину. Медленно, что позволяло остальным бежать, ну, почти вровень, он провёз малышей по главной и единственной улице посёлка и высадил у выгона. Выкрикивая на бегу благодарность, они побежали обратно, а он проехал через выгон под внимательными взглядами коров — особенно вдумчиво смотрел на него бык — и прибавил скорость.
«Вот аггелова скотина», — подумал он о коровах, выруливая на шоссе. С коровами у него отношения не сложились. Ещё в первую декаду жизни у нового хозяина, где-то на третий или четвёртый день его послали доить коров. Какая-то там нестыковка вышла, ну и… Он уже знал, что здесь все работают всё, а что приказы надо выполнять и через «не могу», и через «не умею», он ещё в училище усвоил. И потому пошёл в коровник, правда, честно предупредив Старшую Мать, что в жизни этим не занимался.
— Иди, иди, — напутствовала она его, — чтоб мужик да за титьки держаться не умел. Нечего придуриваться.
О результатах он вспоминать не любил, хотя обошлось без порки, и смеху было много, сам потом смеялся, но уж больно в неприглядном свете он показался тогда.
— Двенадцать тыщ отдали! — кричала Старшая Мать, — а он корову подоить не могёт!
Вокруг хохотали сбежавшиеся на крик мужики, а он пытался оправдаться, что за титьки-то он держался, конечно, и не раз, так баб же он не доил. Тут начались такие комментарии, что он и сам захохотал. На шум пришёл хозяин, тоже посмеялся и, к его удивлению, заступился за него.
— Не шуми, Нянька. Он для другого куплен.
Как говорили матери у Сторрама: обошлось и ладноть, но к коровам неприязнь у него осталась. У них к нему тоже. Потом ему объяснили, что коровы не любят запахов бензина и машинного масла, а он ими пропах, как скажи, в них купается, вот коровы и бесятся, как зачуют его. Ну, он и подходить к ним не будет. А заодно и узнал, за сколько его у Сторрама откупили. Что ж, двенадцать тысяч — это сумма, за столько, а в монетах, пожалуй, мешок (12 кг) выйдет, так да, хозяин тебя поберегёт. Если тому, конечно, какая вожжа под хвост не попадёт. Как в тот раз…
…С Джаддом они то и дело сцеплялись. Любимые слова айгрина: «Ты воевать, ты победить, ты раб», — доводили его до бешенства. А Джадд не упускал случая высказаться. Он старался сдерживаться, тем более что сталкивались они лицом к лицу только за столом. А так, он в гараже, Джадд в своем сарайчике, где шил и чинил всему дому обувь, ремни и вообще всякую кожаную мелочёвку. Но когда возникали какие-то общие работы по саду или огороду, то на работу выходили все, и тут хочешь не хочешь, а окажешься или рядом, или лицом к лицу. Дважды их растаскивали остальные мужчины, не допуская до серьёзной драки. А тут… он шёл через двор в гараж, Джадд нёс на кухню зашитые ботинки Лутошки. Кто что сказал первым, он сам теперь не мог вспомнить, но слово за слово, и Джадд запустил в него ботинками. Он увернулся и выкрикнул одно из немногих известных ему айгринских ругательств. Смысла его он не понимал — вообще его познания в айгринском ограничивались разговорником для первичного допроса пленных, а ругательства он узнал в окопах на Малом Поле, где нейтральная полоса сужалась, и солдаты обеих армий развлекались, переругиваясь на своих языках — но запомнившееся ругательство было очень крепким. На Малом Поле после него начиналась стрельба, а здесь айгрин кинулся на него, и они сцепились уже всерьёз, покатившись по земле в смертной схватке, где уже нужно не победить, а убить, и не противника, а врага.
Потом ему рассказывали, как они катались по земле, пытаясь задушить друг друга, хрипя и рыча по-звериному, и никто даже подступиться не решался, и кабы хозяин не прибежал, то они бы точно поубивали друг друга. А хозяин даже не водой их стал разливать, а схватил огнетушитель, грохнул его об землю и пеной им в морды залепил.
Это он помнил хорошо. Ударившую ему в лицо твердую и нестерпимо противную струю, которая оторвала его от айгрина и отбросила к стене. Он сразу свернулся клубком, подтянув колени к подбородку и закрыв руками голову. Бросив опустевший огнетушитель, хозяин заорал на них:
— Вста-ать! Смирно!
К его удивлению, айгрин выполнил эти приказы с той же, что и он, скоростью и таким же старанием. «Ну да, — тут же сообразил он, — пленный, значит, служил».
Тяжело дыша, хозяин оглядел их бешеными глазами, выругался крепким фронтовым загибом и тут же, опять к его удивлению, по-айгрински. Вокруг, но на почтительном удалении, столпились остальные.
— Так, — наконец перевёл хозяин дыхание. — В поруб, оба!
Что это такое, он не знал, хотя слово звучало вполне по-нашенски. Кто-то из женщин охнул, и он понял, что наказание серьёзное.
— Вперё-ёд! — заорал хозяин, — бего-ом… марш!
В указанном направлении был огород и стоящий на отшибе маленький сарай, который он первоначально принял за запасное отхожее место, и уже решил, что их заставят чистить выгребную яму, что неприятно, даже позорно, но не смертельно. Но сарай оказался порубом или подземной тюрьмой. Вернее, глубокой, в два полных роста и ещё с половиной (480 см) ямой, выложенной изнутри бревенчатым срубом, с земляным полом, ещё одной ямкой в углу вместо параши и решетчатой крышкой. Размер ямы позволял лечь по диагонали. Хозяин откинул крышку, велел им раздеться, потом разрешил одеться, оставив каждому только рубашку и штаны. Ну, на айгрине больше ничего и не было, это он был в белье и сапогах, так что их, как он мрачно