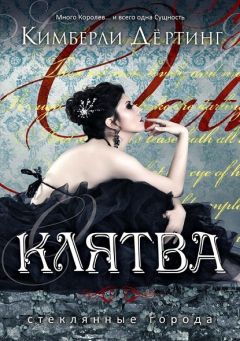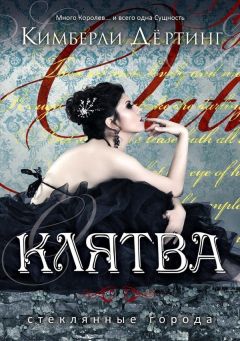— Для Лудании это стало поворотным моментом, — прошептала я, почти касаясь губами ее щеки. — Недовольство новым режимом росло, жертв становилось все больше. Кладбища были переполнены, и многих покойников приходилось сжигать: дым образовывал черные облака, от которых задыхалась провинция. Люди требовали изменений, возврата к правителям прошлого. Но их не было. Все они стали жертвами революции.
Последние слова я произнесла медленно, тихо, и глаза Анджелины закрылись, сдавшись, наконец, во власть сна.
Но это было неважно: она знала, чем все закончится. Мы все знали.
Тайные группировки, стремившиеся сбросить новую «демократию», разослали в другие страны свои просьбы, а шпионы начали искать представителей королевской династии, тесно связанных со старым троном.
Нам требовался новый лидер. У страны должна быть королева.
В конце концов, она нашлась. Нашлась та, что пожелала занять трон и увести страну с пути саморазрушения.
Это была сильная женщина — так гласит история, — королевского происхождения и царственного облика. Когда ее войска без труда разбили самодовольную, плохо обученную правительственную армию, она проявила милость к своим предшественникам, казнив их непублично и по возможности безболезненно.
Столь властную королеву легко приняли монархии соседних стран, и вскоре санкции против Лудании были сняты, восстановлена торговля и старые связи. Наш народ перестал голодать.
После этого была введена классовая система. Ее создали для того, чтобы предотвратить возможные восстания, чтобы люди жили в своих социальных группах, и мысли о бунте не смогли преодолевать их границ.
Язык превратился в инструмент, с помощью которого разделение завершилось. Говорить и даже узнавать язык другого класса стало незаконно. Это был способ хранить тайны, насаждать власть и контролировать менее… значимых.
Все случилось несколько веков назад, когда у городов еще были имена, и хотя кое-что с тех пор изменилось, классовая система и монархия оставались нетронутыми. Сейчас они были сильнее, чем когда-либо прежде.
Слова создали окончательный барьер. По закону, можно было говорить либо на англезе, либо на языке своего класса. Любой, кто проявлял склонность к другому языку, приговаривался к смертной казни. Столь жестокие меры эффективно сдерживали людей.
Спустя сотни лет мы утратили способность понимать языки других классов и знали только свой собственный. Мы перестали понимать нюансы чужих диалектов.
Но даже если люди были бы равны, я все равно от них отличалась, поскольку понимала все языки. Моя способность не ограничивалась словами, произнесенными вслух. Я понимала все способы коммуникации, включая визуальные и тактильные.
Однажды отец взял меня в музей, один из тех немногих, что не был сожжен дотла во время революции, чтобы показать, каким был мир, когда наша страна жила как единая нация. Возможно, не всегда спокойно, но без разделений кастовой системы.
В музее мы увидели прекрасные рисунки, с помощью которых общались древние цивилизации… искусные наброски, которые, по словам нашего экскурсовода, были переведены на англез.
Когда он их прочел, я поняла, что он ошибается — перевод был неверным.
Я понимала, о чем эти превосходные слова-изображения говорили на самом деле. Я знала подлинное значение рисунков и объяснила его, раскрыв истинное содержание послания наших предков.
Разозленный гид настоял на том, чтобы я признала свою ложь и попросила прощения за непокорность. Отец прикрыл свой страх смущением и извинился перед взбешенным экскурсоводом, сославшись на мое бурное воображение. Он называл меня капризной и невоспитанной, скорее уводя прочь из музея, от интересных слов, пока гид не обнаружил, что моя интерпретация верна.
Пока он не потребовал арестовать меня за понимание языка, который я не имела права знать.
Сперва меня отчитали за выходку, а потом крепко обняли от страха и облегчения.
Отец вновь напомнил, как опасно раскрывать перед людьми мою способность.
Перед любыми людьми.
Всегда.
Мне было тогда шесть лет, и второй раз в жизни я видела, как мой отец плачет.
Впервые это случилось, когда мне было четыре года и он убил человека.
Дверь открылась, и в комнату скользнул темный силуэт матери, неся с собой аромат выпечки, впитавшийся в ее кожу за долгие годы работы в ресторане.
Она кивнула на Анджелину.
— Ты тоже должна спать, Чарлина. Завтра в школу.
— Знаю, я почти закончила, — ответила я на англезе и закрыла книгу, поскольку все равно не могла больше на ней сосредоточиться.
Она села рядом, убрала волосы с моего лица и провела по щеке тыльной стороной ладони.
— Ты выглядишь усталой.
Я не ответила, что усталой выглядит она. Что ее светлая кожа увяла, а некогда прямая спина согнулась. Невозможно было согласиться, что моя мать рождена для такой тяжелой жизни.
Возможно, никто для нее не рожден.
Я кивнула:
— Так и есть.
Она поцеловала меня в лоб, и я вдохнула знакомый запах теплого хлеба. Запах моей матери. А потом она забрала книгу у меня из рук.
В это мгновение из книги вылетел вложенный между страницами листок бумаги и упал на тяжелые покрывала, служившие нам одеялом. Мать его не заметила, отвернувшись, чтобы положить книгу на столик, и я взяла лист.
Мне сразу стало ясно, что положила его туда не я.
А когда я прочла, что там было написано, то задохнулась от потрясения.
— В чем дело, Чарлина? — спросила мать.
Я покачала головой, спрятав бумажку под одеяло и крепко сжав кулак.
Она подняла брови, словно собираясь повторить вопрос, но в этот момент с улицы донесся знакомый сигнал, напоминавший, что настало время возвращаться домой и пребывание на улицах незаконно. Когда она повернулась ко мне, от любопытства не осталось и следа, и она погасила стоявшую на столике лампу.
— Спокойной ночи, Чарли, — произнесла она на англезе, удивив меня, поскольку обычно не говорила на нем в стенах дома.
— Спокойной ночи, мама, — ответила я с хитрой улыбкой, в свою очередь, удивив ее тем, что сказала это на ее любимом языке.
Когда дверь за ней закрылась, я вновь зажгла лампу.
Мне надо было прочесть это еще раз.
Или даже два раза… три… или еще пятьдесят, думала я, вытаскивая скомканную бумажку и аккуратно расправляя ее.
Там, где мои пальцы стискивали лист, пряча его от матери, на бумаге появились новые складки.
Я взглянула на слова, недоумевая и пытаясь разобраться в своих чувствах. Все мышцы моего тела были напряжены. Волосы на руке встали дыбом.