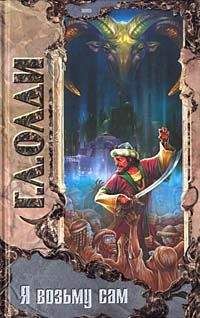— Вечные муки! Возьми их себе, ты же мужчина!..
Артур зарычал. Ответ клокотал в глотке, отказываясь превращаться в слова. Натянулись, готовы лопнуть, мышцы и сухожилия. Кости едва не вывернулись из суставов. Плотный коньячный дух, казалось, пропитал воздух. Борцы, зрители, стены — все потело коньяком.
— Брат! Ломай его!
Крик вспорол гул стадиона с хрустом, как нож — спелый арбуз.
— Ломай!
Бронза осталась бронзой. Она сдерживала сопротивление тела, не давая Шамилю кинуться на арену, но с голосом бронза не справилась. Лргур видел, как напряглись жилы на шее Шамиля, как раскрылся рот — и по серым губам побежали тонкие, кровоточащие трещины
— Ломай, да! Ты же мужчина!
Бушевали трибуны, приветствуя медбрата. Бешеный водоворот затягивал на дно. Единственная точка покоя в кипящей воронке — бездвижный, кричащий Шамиль.
Точка покоя.
Точка опоры.
Артур стиснул зубы. Выгнулся, опасно подворачивая правый локоть. В плечевом суставе хрустнуло. Медбрат без труда вернул преимущество, но Артур успел подогнуть ногу, упёрся коленом в каменный живот. Сейчас, подумал он. Сейчас…
Паук-многоножка боком пошёл по арене.
— Ломай, брат! Сделай его!
Стадион замолчал. В густой, душной тишине Шамилю вторили новые голоса. Женщины, ребёнок, старик:
— Ломай!
— Почему ты не застрелился? — прохрипел медбрат.
Тиски из гранита. Вопль измученной плоти.
— Почему?
Надо было бросать сразу. Через себя, как он и собирался. Артур промедлил долю секунды, жалкое мгновение. Теперь было поздно.
— Почему?
Бедро пронзила боль: чёрная, страшная. Перед глазами распахнулась ночь. В ней вспыхивали колючие звёзды.
— Почему?!
В ночи под звёздами Артур улыбнулся медбрату. Ты сломал мне бедро? Радуйся. Но сейчас у тебя заняты руки. Переворот, всем телом, с упором на здоровую ногу. Бедро взорвалось адской болью, когда Артур оказался сверху. Лопатки соперника впечатались в ковёр.
— Держи, брат! Не отпускай!
— Не отпущу, — согласился Артур.
Или только подумал?
Лицо медбрата побагровело. Артур не душил его. Знал: удушающие — запрещены. Пусть на этом стадионе пахнет коньяком, пусть нет судьи — правила есть правила. Он просто держал, обхватив соперника, сдавив подреберья ногами, сломанной и здоровой, не давая как следует вдохнуть.
— Почему?!
Артур держал. Молчал.
— Почему?..
И еле слышно, задыхаясь:
— Отпусти меня…
— Хорошо, — согласился Артур. — Раз ты просишь.
— ГОРЕ ТЕБЕ, РАБ НЕПОКОРНЫЙ. ЖЕСТОКОВЫЙНЫЙ!..
Золото хлебного поля — от горизонта до горизонта. Пыль узкого просёлка. Звон летнего зноя.
— ИСТИННО ГОВОРЮ: ПРОКЛЯНЁШЬ ЧАС РОЖДЕНИЯ СВОЕГО!..
По просёлку идут трое. Шагают, не торопясь, но и не мешкая: парень в джинсовом костюме и кепке с длинным козырьком, широкоплечий подросток в школьной форме (плоские жёлтые пуговицы, уродливый воротник) и мальчишка лет семи — темноволосый, гибкий, черноглазый.
— ВЗЯЛ ТЫ НА СВОИ РАМЕНА БРЕМЯ ТЯЖКОЕ! НЕ УНЕСТИ ДАЛЕКО!..
Парень и подросток ведут беседу. Говорят спокойно, не повышая голоса. Мальчишке скучно. Он то и дело срывается на быстрый шаг, обгоняет, нетерпеливо оборачивается.
А из глубин бирюзового омута гремит:
— ОТНЫНЕ ИХ ГРЕХ ТВОИМ ГРЕХОМ БУДЕТ…
Подросток и мальчик ничего не слышат. Парень в кепке слышит, но пропускает мимо ушей. Так его ученики, бывает, на уроке слушают выговор строгого учителя. Гремит? Пусть себе гремит.
— ЗА ГРЕХИ ИХ НА СУДЕ ОТВЕТ ДАШЬ…
— А что там, за полем, Сан Петрович? — подросток машет рукой вдаль. Рука бугрится мускулами: грузчику впору. — Очень узнать хочется, да.
Парень щёлкает пальцами по козырьку кепки:
— Не спеши, Чисоев. Поле ещё перейти надо. Видишь, какое большое, шагать и шагать! А что там… Не знаю.
— Вы? — сомневается подросток. — Не знаете?
— Я не знаю. Ты даже не представляешь, Чисоев, сколько я не знаю!
Он смеётся:
— Поглядим, авось не испугаемся!
Услышав последние слова, мальчишка подпрыгивает от возмущения:
— А я не боюсь! Мы с братом никого не боимся!
Парень подмигивает хвастуну:
— Завидую тебе, Артур. Лично я много чего боюсь. Дантиста, например. Боюсь, а иду…
— ГОРДЫНЯ! — гремит сверху. — ИСТИННО ГОВОРЮ ТЕБЕ…
Что именно, остаётся загадкой. Гром рассыпается мелким кашлем:
— ЭЙ! ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ? ЗНАЕШЬ, НЕ СЛИШКОМ ВЕЖЛИВО С ТВОЕЙ СТОРОНЫ…
— Сан Петрович! — подросток с удивлением запрокидывает голову. — Там, наверху! Гроза, что ли?
— НЕ ХОЧЕШЬ ПУГАТЬ ДЕТЕЙ, ТАК ХОТЬ РУКОЙ ПОМАШИ…
Парень ловит зрачками густую синеву:
— Слышу, Шамиль. Наверное, самолёт. Звуковой барьер переходит… Перегрузки, жуткое дело!
Он срывает с головы кепку, машет, рассекая горячий воздух:
— Счастливого полёта!
Хлопает спутника по плечу:
— Трудная у него служба. Иногда задумаешься, и оторопь берёт. В небе ещё ничего, а как вниз поглядишь!..
* * *
— Эй! Ты меня слышишь?
Александр Петрович не слишком надеялся на ответ. Сон есть сон, здесь свои законы. Улыбался, глядел сверху, из синей бездны небес — на хлебное поле. С высоты прожитых лет — на себя давнего, молодого разлива. Это свойственно возрасту: разговаривать с самим собой. Иные считают такое мудростью. Иные — маразмом.
— Знаешь, не слишком вежливо с твоей стороны…
И с моей, решил он, тоже. Прыгай, обезьянка! Сколько раз Александр Петрович повторял в мыслях эти слова, глядя на школьников, разыгравшихся к концу большой перемены.
Без насмешки, без желания обидеть — от всей души завидуя умению прыгать, забыв о контрольной по географии, о том, что Волга впадает в Каспийское море, и скачи теннисным мячиком или лежи пластом, а впадает, и баста.
— Не хочешь пугать детей, так хоть рукой помаши!
В ответ кепка рассекла звенящий зной:
— Счастливого полёта!
Спасибо, подумал старик. И тебе, приятель, скатертью дорога. Смеясь. Александр Петрович отвернулся от земли, от спелой, сыплющей зерном нивы. Запрокинул голову, глядя вверх, выше неба. Над синей бездной, где он, не смущаясь годами и сединами, плыл, как мальчишка — в сельском пруду, вставал могучий купол. Округлая твердь из металла. В полировке, словно в оконном, залитом дождём стекле, сквозила тень: кажется, город.
Кажется, золотой.