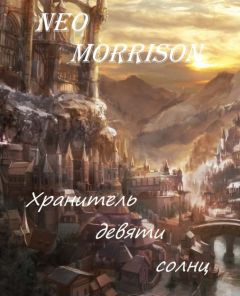…Как-то раз жена сообщила, что хотела купить ему зимние сапоги, но в последний момент почему-то передумала. Почему, спросил Шенкурцев, а она замялась, виновато отводя глаза в сторону, а потом туманно выразилась в том смысле, что нельзя, мол, загадывать заранее, что до зимы далеко, а там видно будет…
…В другой раз Шенкурцев открыл "Вечерку" на последней странице, в рубрике "Некрологи" ему сразу бросилась в глаза его собственная фамилия в траурной рамке. Сердце куда-то провалилось, а потом он разглядел, что имя и отчество покойного, набранные шрифтом поменьше, – не его.
…И уж совсем непонятная история произошла с ним однажды в месткоме института, куда Шенкурцев забежал, чтобы узнать, как продвигается его очередь на получение двухкомнатной квартиры. В очереди этой он обретался уже пятый год без особых надежд на успех. И тут в беседе с председателем месткома выяснилось, что Шенкурцева вычеркнули из списка очередников. Причем председатель сначала даже не понимал, чем, собственно, вызвано возмущение посетителя.
– А вы, собственно, уверены, что вам положена квартира? – спрашивал председатель.
– А разве ваша семья состоит из трех человек? – терпеливо выслушав протесты Шенкурцева, спрашивал председатель.
В конце концов, Шенкурцев не выдержал и стал орать: "Рано.. рано!.."- язык у него не поворачивался добавить: "…меня хороните!". недоразумение было довольно быстро улажено, но неприятный осадок в душе нашего героя остался надолго.
По сравнению с вышеупомянутым эпизодом, совсем невинными шалостями Его Величества Случая кажутся другие странности. Ну, например, звонят Шенкурцеву через день из районной похоронной конторы и настойчиво предлагают ему то гроб, то надгробие, то катафалк с выездом на дом… Или неделю подряд посещает Шенкурцева агент Госстраха и столь же настойчиво пытается убедить его в выгоде страхования жизни, а заодно – ив бренности нашего существования… Или включает Шенкурцев телевизор, и выясняется, что по всем каналам речь идет о смерти: кто-то там либо уже умер, либо только собирается в мир иной…
Поэтому, как ни тривиально будет сказано, роковая дата нависла над нашим героем подобно дамоклову мечу. Что Шенкурцев ни делал, о чем бы ни думал – неизменно упирался в эту дату, как в некий финишный барьер, который ни преодолеть, ни обойти невозможно. Впору было уже, словно заключенному в тюремной камере, начинать отсчитывать дни, только отсчет этот, в отличие от того, который ведет узник, был бы наполнен не надеждой, а отчаянием.
А дни вдруг стали пролетать с непостижимой быстротой, и не было способа ни остановить, ни хотя бы замедлить их полет.
Шенкурцев стал плохо спать по ночам, еда не лезла ему в горло. Первое время он еще пытался заниматься своим научным трудом, но потом окончательно его забросил. Дело было даже не в том, что он отчаялся. На себе, на своих собственных плечах Шенкурцев испытывал тяжесть тех понятий и истин, которые еще недавно, как и многие люди, считал банальными и затертыми до дыр: "переоценка ценностей", "бренность бытия", "неумолимость времени"… И смотрел он на мир теперь совершенно другими глазами. И представлялось этому "нью-Шенкурцеву", что его будущая диссертация, в сущности, никому, кроме него самого да еще десятка людей, не нужна. Не внесет она никакого "значительного вклада" в науку и не даст людям ни добра, ни практической пользы. Да и многое другое теряло отныне свой смысл.
В детстве мать заставляла Павлушу Шенкурцева чистить на ночь зубы и умываться, а он всегда возмущался, зачем это нужно, если утром придется делать то же самое. Мать обычно отвечала вопросом на вопрос: "А зачем ты тогда кушаешь? Ведь потом все равно опять проголодаешься… Зачем ты пьешь, если когда-нибудь вновь почувствуешь жажду?"…Теперь, образно выражаясь, чистить зубы на ночь не имело больше смысла, потому что "утро" все равно не наступит…
Шенкурцев стал угрюмым и неразговорчивым. Целыми днями он слонялся по квартире и старался не думать об ЭТОМ, но, как известно, чем больше человек убеждает себя о чем-то не думать, тем упорнее на этом заклинивается.
Тогда Шенкурцев кое-как одевался, не заботясь более о своей внешности, и уходил бесцельно шататься по городу. Но на шумных городских улицах ему было еще хуже. Люди куда-то спешили, и машины куда-то мчались, и все были заняты своими делами, и никому не было дела до медленно идущего по грязному тротуару человека с черными кругами под глазами от бессонницы. И тогда Шенкурцеву приходило в голову, что все уже было до него и будет после него. Разумеется, подобные мысли были не новыми, как застиранные до дыр носки, но, подлые и тривиальные, они все-таки приходили в голову, и некуда было от них деться…
Прошло лето, наступила осень – последняя осень, думал Шенкурцев. Теперь для него все было последним. Или предпоследним. И казалось ему, что природа готовится не к зиме, а, как и он сам, – к смерти.
Чем больше Шенкурцев задумывался над этим, тем страшнее ему становилось. В такие моменты внутри словно что-то смерзалось, к горлу подступал липкий комок страха, который никак не получалось проглотить, и хотелось то ли заорать на весь белый свет от отчаяния, то ли, наоборот, забиться куда-нибудь в угол маленьким серым мышонком, чтобы никто не видел, как ему больно и страшно…
Положение смертника усугублялось тем, что не с кем было поделиться. Даже жена, самый близкий и родной человек, не понимала, от чего мучается Шенкурцев, а ведь она замечала, не могла не заметить, что он именно мучается: не раз ночью, просыпаясь от странного мычания рядом, она видела, что Павел не спит, а стонет, как от внутренней боли… Но что могла сделать бедная женщина? Встать, зажечь ночник, спросить тревожно "Что с тобой, милый?", на худой конец предложить снотворного или аспирин от головной боли… Разве могла она понять, что Шенкурцев молчал в ответ на ее расспросы, потому что с языка его рвался очередной пошлый анекдотец: "Приходит одна женщина к гинекологу…"?! Да если бы даже Шенкурцев мог говорить, разве легче бы стало и ему, и ей – особенно ей! – если бы он поведал жене всю правду?!..
Наверное, от отчаяния и от безысходности Шенкурцев стал выпивать. Сначала – "выпивать"… Потом – пить по-настоящему, что называется, "по-черному", без скидок на затаившийся в желудке гастрит и на статус семейного, порядочного человека… В сознании его появились провалы и какие-то отрывочные, полуреальные видения. Словно это был дурной сон, от которого в памяти наутро остаются лишь самые яркие моменты.
…Вот в огромном банкетном зале он сидит за большим столом, уставленным дорогими винами и закусками, в компании полузнакомых людей. Вокруг сверкают вспышки цветомузыки, гремит усиленный микрофоном голос певца, слева от Шенкурцева визгливо хохочет длинноногая девица во всем джинсовом, а справа некто лысый, но с пышной бородой бубнит в ухо: "Нет, старик, ты не прав, что бросил диссер… Ты бы утер всем нос… в ученом совете…". Шенкурцев пьет рюмку за рюмкой, а шум и гам – то ли в зале, то ли в голове – все сильнее…