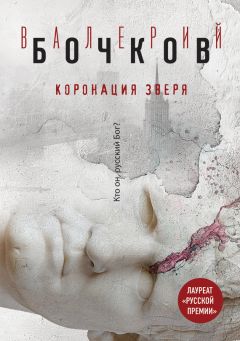– Славная у тебя дочурка. – Сильвио уронил салфетку на пол, нагнулся. – Взрослая совсем…
Я скромно кивнул, вдаваться в подробности не совсем родственных отношений с «дочуркой» не хотелось.
Зина уехала час назад.
Она нацарапала номер телефона на клочке бумаги, я спрятал его в бумажник. Наклонился к ней, тронул за плечо. Она подняла глаза, черные, как вишни.
– Вот что… – неопределенно начал я. – Ты меня прости… я себя как дурак вел…
– Ну не всегда, – великодушно улыбнулась она. – Полный норм, папа. Не буксуй.
– Ты думаешь, что с моим… с Дмитрием все о’кей? – Мне по-прежнему не удавалось произнести имя сына без странных заиканий.
Она кивнула, серьезно посмотрела мне в глаза. Я неуклюже обнял ее, прижал. Зачем-то похлопал по спине.
– Осторожней там… – тихо сказал ей в ухо. – Сама видела, что в городе творится.
– Угу.
– И пропуск не потеряй.
– Угу.
Зине выдали карточку, запаянную в пластик, что-то вроде водительских прав, с двуглавым орлом, фиолетовой печатью и таинственной надписью «допуск Б».
– Кстати… – Зина запнулась. – Ты насчет Димки особо тут не распространяйся. Со своим этим другом.
– Почему?
– Не надо…
– Ты можешь…
– Потом.
Как всякий русский, латентно суеверный и ищущий логики в любом иррациональном проявлении жизни, я не верил в случайности подобного рода. Судьба не могла разыграть столь замысловатую комбинацию без конкретной цели. Просто не могла.
Мы шли коридором без окон, Сильвио напористо шагал, как сквозь ветер, изредка прихватывая и подталкивая мой локоть. Свита из семи-восьми человек, все мужчины, поспевала следом. Давешний здоровяк-людоед отрывистым шепотом говорил сразу по двум телефонам. Остановились у лифта. Разъехалась дверь, лифт был огромный, в кабину запросто мог войти средних размеров слон. Сильвио развернулся, коротко бросил своим:
– Я один. Все вопросы к Шестопалу.
Он кивнул на людоеда, тот выпятил диковатую бороду, властно зыркнул из-под бровей.
– Глеб Глебыч, а как же с… – ласково начал некто с бабьим лицом.
– К Шестопалу, я сказал! – рявкнул Сильвио, подтолкнув меня в лифт.
Дверь закрылась, кабина пошла вниз. Мы вместе, как по команде, посмотрели в тускло светящийся потолок, похожий на сырой лед.
– Есть страны, которыми лучше не управлять, – сказал Сильвио, глядя вверх, – которые, как камень с горы… толкнул, камень и покатился. И покатился, и покатился…
Дверь открылась. Нас ждали четыре охранника в одинаковых серых костюмах и один коротышка, тоже в штатском, но по повадке явно военный. Он вытянулся, выставил подбородок. Мне показалось, что он сейчас начнет что-то звонко рапортовать.
– Как она? – спросил Сильвио.
– Молчит, – неожиданно низким голосом ответил коротышка. – Зато Каракозова не остановить, поет. Жаворонком.
– Пусть поет, – мрачно сказал Сильвио. – Пошли к ней.
Я ожидал увидеть камеру – склизкие стены, выкрашенные тюремной краской, железную койку. Желтую лампочку под потолком в ржавой решетке. Комната оказалась почти уютной, с толстым ковром в орнаменте из персидских лопухов осенних расцветок и мягкой мебелью. Мне даже почудилось, что там пахло теплой карамелью. Точно рядом на кухне пекли печенье. Коротышка впустил нас, отрывисто кивнул и, чуть не прищелкнув каблуками, удалился.
В дальнем углу в разлапистом кресле, затянутом в белый музейный чехол, сидела женщина в изумрудно-зеленых сапогах. Увидев Сильвио, женщина непроизвольно выпрямила спину.
– Госпожа Гринева. – Сильвио дошел до середины и, словно в нерешительности, остановился. – Здравствуйте, Анна Кирилловна. Здравствуйте…
Произнес красивым баритоном и замолчал. Она зло вскинула голову.
– Только давайте без драмтеатра, Сильвестров. Что нужно?
– Мне? – удивился он. – Мне – ничего. Давайте лучше поговорим о вас.
Она не ответила. Закинув ногу на ногу, она закурила; ноги у нее были непомерно длинные и ломкие, как у цапли. Она нервно качала хищным носком сапога. Я огляделся; стоять в дверях было глупо, и я тихо присел на край дивана. Диван тоже был затянут белым чехлом, как саваном. Гринева перестала качать ногой, застыла, будто у нее внутри кончился завод. Повисла бесконечная пауза.
– Странно… – рассеянно произнесла она. – Как все странно…
Проговорила растерянным тоном, как говорят спросонья, пытаясь припомнить ускользающий сон. На подлокотнике кресла стояла пепельница. Гринева с хрустом воткнула в нее сигарету, докуренную до половины. Она курила тонкие пижонские сигарки, коричневые и ароматные, это от них в комнате пахло карамелью.
– Никто не придет. Никто не включит свет. Никто не обнимет, не скажет, что все это просто приснилось. Никто…
Она произнесла это тихо и отчетливо, впрочем, не обращаясь ни к кому. Повернула голову, точно позировала для портрета, острый подбородок, хищный нос, бритый затылок – свет уронил на лицо случайные тени, и на мгновенье ее профиль напомнил мне Цезаря, вернее, его близнеца, хрупкого и нервного императора выдуманной империи. «Лучше умереть сразу, чем жить ожиданием смерти», – так, кажется, сказал пожизненный диктатор Римской республики. Я вдруг ни к месту вспомнил, что Цезарь отчаянно стеснялся своей лысины – зачесывал на нее волосы, прятал под лавровым венком. Великий Цезарь, покоритель Европы – и вдруг такая нелепость!
– Меня казнят? – Гринева повернулась к Сильвио.
Сильвио помедлил, сунул кулаки в карманы. Гринева устало кивнула, точно соглашаясь с кем-то.
– Зачем вы пришли? – спросила она тусклым голосом.
– Хотел посмотреть…
– Ну и? Посмотрели?
Сильвио не ответил, сделал шаг к ней, опустился на корточки.
– Я арестовал их всех, всю эту сволочь. Собрал в Манеже. Я дразнил их, как дразнят собак. Хотел увидеть злость, хотел увидеть ярость, поглядеть, на что они способны…
Он замолчал.
– Ну и? – спросила Гринева без интереса.
– Ничего. – Сильвио резко встал, почти крикнул: – Ничего! Ни злобы, ни ярости, ни даже страха! Ничего! Покорность, холуйская покорность. Ничего больше! Я хотел увидеть врагов – на меня смотрели рабы.
Он зло замотал головой.
– И это ведь лучшие! Самые пронырливые, самые энергичные. Те, которые по головам, по трупам пролезли в Думу, в сенат, в министерства. Элита! Сливки общества. Что ж тогда про народ, про массы, – усмехнулся он, – про движущую силу истории говорить? Про великий русский народ?
Гринева вдруг ожила, улыбнулась, будто расцвела.
– А-а, вот оно что…