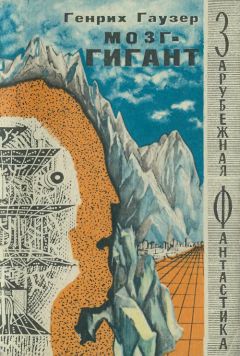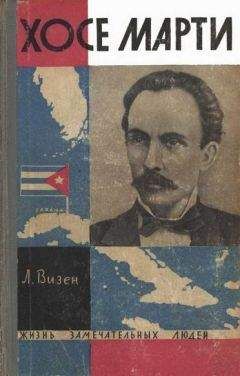— Томпсон, Томпсон… Это у которого остеогенезис ног?
— Скажите, весьма специфическое заболевание, не правда ли? И еще: нам сообщили, что он совсем не дышит во время заплыва. Это действительно так, Шэр-манн? Полторы тысячи метров без единого вдоха-выдоха. Даже амфибии дышат, хотя в большинстве случаев через дырку в башке.
— Он дышит, но очень быстро, Георгий. Клянусь. У него настолько эластичные губы, что для вдоха достаточно малейшего поворота головы.
— Поразительно! Мы постараемся заснять это во время заплыва.
Они уселись в кресла футах в двадцати от хронометристов. Дорожки освободились, судьи приготовились, в бассейне воцарилось напряженное молчание. К четвертой дорожке поддерживаемый с обеих сторон товарищами по команде прошествовал Томпсон. На ногах у него было нечто вроде горнолыжных ботинок, обтягивающих икры. Длинные эластичные пластины, выдвинутые из ботинок, являлись, очевидно, приспособлениями для поддержания равновесия, или, как назвал их ухмыляющийся Смердяков, галошами-альбиносами. Не меньшее впечатление произвела на него и голова Томпсона. За исключением тонкой полоски волос за ушами, она была абсолютно лысой.
— Амфибия! — возбудился Смердяков, хлопая себя по макушке.
Кинокамеры русских зажужжали.
И вот наступил последний день. Мировой рекорд Томпсона был опротестован. Олимпийский комитет пребывал в нерешительности. Кто-то прислал Смердякову семь комплектов комиксов о Папайе и пачку свежезамороженного шпината. Москиты питались кровью Шермана.
Шерман смотрел телезапись финальных скачек на гран-при. Дядюшка Сэм получил еще одно золото, правда временно. Дурацкое золото.
— Теперь все будет зависеть от бокса. Феликс, — рассуждал Шерман, — посмотри на эту клячу. Она не скачет — она ходит ходуном. Того и гляди рассыплется. Ну как тут не пройти протесту? Теперь последнее слово за боксом.
Зазвонил один из телефонов. Феликс снял трубку.
— Это Смердяков, — сказал он.
Шерман взял телефонный аппарат и приложил его к голове, будто компресс.
— Хелло, Папай, — поздоровался он устало.
— И это вы называете лошадью?! — раздался вопль Смердякова.
— А что? У нее четыре ноги и хвост. Разве нет? Разве что-то не соответствует требованиям русских к скаковым лошадям?
— Шэр-манн. Мы хотим просветить это животное рентгеном!
— Виноват. Скачки кончились два часа назад. Она издохла.
— Издохла? — с угрозой в голосе переспросил Смердяков.
— Да. Сломала ногу по пути в конюшню. Пришлось пристрелить.
— Превосходно! Произведем вскрытие.
— Да ее уже зарыли.
— Выкопаем.
— Мы зарыли урну — труп ведь сожгли.
— НУ И НУ, Шэр-манн…
— Вместо этого лучше откопайте своего жеребца.
— Своего?
— Да, того, что взял серебряную медаль: шматок мяса, хвост и некое подобие головы. Его результат уже опротестован. Бедняга околел, не так ли?
— Естественно…
— Ну, вот. Полагаю, один из казачков загнал его до смерти?
— Вовсе нет. Он издох совершенно по другой причине. Мы погрузили его в самолет, а самолет разбился в вашем Бермудском треугольнике.
— Счастлив был услышать ваш голос.
— Взаимно, Шэр-манн. Как поживают комариные укусы?
— Нормально. А как вам комиксы о Папайе?
— Отлично. Этот Блуто — ха, ха, ха! Ну, ладно… Гудбай.
— Гудбай, Папай. Шерман передал телефон Пятнице.
— Теперь все зависит от бокса, — повторил он.
Как это символично — заключительный вклад в братство народов будет сделан на ринге, в ходе дружеской встречи двух парней, стремящихся вышибить друг у друга мозги из черепков, — думал Шерман. Даже при употреблении шлемов тяжеловесы способны угробить противника. А у американского парня были руки-динамиты. В то же время русского боксера можно было бы назвать парень-болеро. Он скользил, выгибался, уклонялся, подныривал и лишь время от времени угощал соперника точными, но слабыми тычками. Он боксировал элегантно, но вряд ли мог нанести решающий нокаутирующий удар. Сложением он напоминал балерину. Неплохая фигура. Светлоглазый, с фарфоровым подбородком… Шерман связался по телефону с тренером команды по боксу.
— Голова, Бронсон, — сказал он, — пусть метит в голову. Тогда русский не сможет нашего перебоксировать. Наш выбьет из него дух.
Бронсон не преминул сообщить Шерману, где он видал такие-то советы, после чего они рычанием засвидетельствовали взаимную симпатию и дали отбой.
Звонок был излишним. При звуке гонга американский парень ураганом вылетел из своего угла. В первом раунде он бил, крушил, громил. Русский защищался и уклонялся. Он не мог сдержать натиска. Во втором раунде американец дубасил жестко, хлестко, одиночными и сериями. Тяжелые удары. Страшные удары. Сокрушительные удары. Нос противника превратился в лепешку, но в остальном советский боксер выглядел свежим как огурчик. Глаза оставались ясными, и он продолжал свой быстрый танец, набирая очки слабыми, но точными ударами.
— Его загипнотизировали, — пожаловался американец.
Короткий, но серьезный разговор с русским не убедил в этом рефери. Подспудное истязание американца продолжалось. Он молотил. Он лупил. Он долбил. Он дробил. С дальней, средней и ближней дистанций. Под конец бил наотмашь и хлестал своего хлипкого соперника, размахивая перчатками, как мельничными крыльями. Постепенно его руки стали превращаться в подобие коровьих хвостов. Потом повисли вдоль тела… Последовала серия слабых, почти женских ударов. Морально и физически измотанный, рыдающий американец упал на колени.
— Не могу поверить, — пробормотал Шерман.
— Я заявлю персональный протест, — произнес Феликс и потянулся к дипломату.
Телефоны зазвонили под вечер. Один у Смердякова, второй у Шермана. Им сообщили, что все протесты приняты.
— ВСЕ?! — вскричал Шерман. — Но это невозможно!
— И что же это за папайская Олимпиада? — возопил Смердяков.
Ошеломленные, они скрючились каждый в своем кресле, каждый в своем гостиничном номере. «Разве можно принять ВСЕ протесты? — спрашивал себя Шерман. — Я думал, они ОТКЛОНЯТ все протесты, но принять! Как они посмели?»
Через двадцать минут появился Феликс с копией компьютерного отчета о результатах, касающихся всех международных протестов, и о перераспределении медалей.
«Каждая страна с развитой программой генетических операций…» — начал было читать он, но передумал и отдал отчет в руки Шерману.
Читая, Шерман чувствовал, как седеет. Он все равно что заглядывал в могилу.