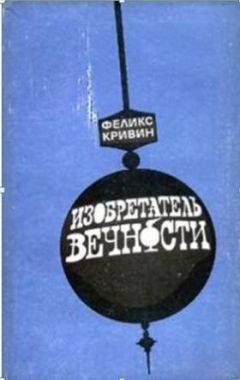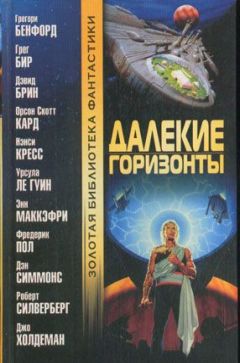Я чувствую, как мной начинает овладевать какое-то незнакомое ощущение, и догадываюсь, что это, возможно, страх. У нас я его не знал, значит, чувство это рождается обстановкой. Но ведь люди, которые жили в этой обстановке и воевали в этих лесах, тоже не знали страха. И ведь они не могли из своего страшного века сбежать, они, как к галере, были прикованы к своему времени. Значит, обстановка может и не рождать страх… Тогда что же все-таки его порождает?
— Стой!
Я останавливаюсь. Он подходит ко мне, волоча за собой винтовку.
— Кто такой?
Лет ему, наверно, не больше семнадцати. Видимо, зная за собой этот грех, он старается говорить по-взрослому строго.
Я отвечаю, что я учитель из Люблина. На всякий случай выбираю город подальше, во избежание неожиданных земляков. Но тогда что я делаю здесь, в карпатском лесу? На этот вопрос я отвечаю со всей прямотой:
— Ищу Стася. Или Збышека.
Иногда приходится говорить правду. Чтобы ложь выглядела убедительней.
— Збышека? — он по-настоящему поражен, но тут же говорит с безразличием, в котором сквозит плохо скрытая гордость: — Збышек — это я. Что дальше?
— Я пришел к вам в отряд.
— Откуда ты знаешь об отряде?
И тут мне пригодилось более широкое знание материала, чего от меня всегда добивался профессор Посмыш:
— Мне сказал один человек из отряда Мариана. Он шел к вам, но не дошел, его ранило при бомбежке, и он умер у меня на руках.
Збышек задумчиво смотрит на меня, решая трудную задачу: верить или не верить? С одной стороны, чужой человек из Люблина, оказавшийся вдруг в карпатском лесу, но, с другой стороны, раз я знаю его, Збышека, значит, я не такой уж чужой человек.
Но не так-то просто поверить человеку. Особенно в те времена.
— Знаю я вашего брата учителя. — Видно, еще свежи у него школьные обиды.
Впрочем, смотрит он на меня без вражды и даже, можно сказать, с симпатией. Наверно, ему приятно, что я уже знал о нем, когда он обо мне и не слышал. Он говорит, что я могу дождаться Стася, это даже необходимо, чтоб мы с ним встретились. Но тут же предупреждает, чтоб я не воображал, будто он мне поверил.
Из-за деревьев вышла девушка. Таких девушек я еще не видел. Могу ручаться, что у нас таких нет.
— Принимай гостя, — сказал ей Збышек, не без удовольствия пользуясь правом отдавать приказания. — Покорми. Чаем напои. Там разберемся.
В нашем времени еще утро, а здесь уже день. Разница часов пять, как между Люблином и Тобольском. Мы углубляемся в чащу и останавливаемся перед входом в землянку. В словаре устаревших слов Окаяцу сказано, что землянка — это вырытое в земле помещение, служившее одновременно и укрытием, и жилищем. В спокойное время люди возводили дворцы, а в тревожное зарывались в землю. Землянка — это дворец тревожного военного времени.
Стол, две-три колоды, заменяющие стулья, несколько лежанок у стен — вот и вся обстановка землянки. Все очень старое, сохранившееся, быть может, с прошлой войны.
Я сажусь на колоду, девушка наливает мне в кружку кипяток.
— Меня зовут Ян.
— А меня Анна.
— Не Марыся?
— Почему Марыся?
Не так-то просто ей объяснить почему.
— Мне казалось, что в таком отряде, как ваш, девушку должны звать Марысей.
Анна кладет передо мной три картофелины — популярную еду тех времен.
— Так вы учитель? Я тоже хотела стать учительницей, только война помешала. Кончится война — обязательно стану учительницей.
Кипяток из моей кружки выплескивается на стол. Для нее война никогда не кончится, а еще верней — кончится очень скоро. Ей жить еще восемнадцать дней, до 9 сентября. Сегодня 21 августа.
— Что с вами?
— Нет, ничего. — Я не осмеливаюсь на нее взглянуть, как будто это я приговорил ее к смерти. Если б я мог их спасти! И ее, и Стася, и Збышека… Но они уже история, а историю не изменишь…
— Я поступлю в Краковский университет. Вы какой кончали?
Университет, который я кончал, будет построен через полторы тысячи лет, поэтому я сказал, что кончил университет в Люблине.
— В Краковском учился Коперник. А в Люблине… Может, и Люблин прославится своим университетом, но сейчас он знаменит другим…
Это мне понятно. В одном из докладов Гиммлеру о созданных концлагерях под номером шестым значится: «Люблин».
— Со временем это забудется.
— В другом времени. Но в нашем времени — нет.
Она сказала «в другом времени», как бы отгораживая себя от меня, будто она знала, что мое время — это не ее время.
— Как вы думаете, меня примут в отряд?
— Конечно, примут. Людей у нас не хватает. Вот Вацек…
Вацек! Новое имя. В материалах архива ни разу не упомянуто.
— Что Вацек?
— Он ушел неделю назад. — Голос ее дрогнул. — И с тех пор его нет. Может быть, он убит…
«…_она не могла поверить, что их предал человек, которого она_…»
Может быть, это Вацек?
Когда возвращаешься в прошлое, чувствуешь себя, как Гулливер среди лилипутов. Я возвышаюсь над этим двадцатым веком, упираясь головой в пятое тысячелетие, и все мне наперед известно, а для них загадка даже завтрашний день. Они берут эту жизнь шаг за шагом и, лишь оглядываясь назад, определяют, в каком они шли направлении. Для меня же весь их путь как на ладони, я знаю начало его и конец. Но того, что мне нужно узнать, я не знаю.
— Как вы думаете, это скоро кончится?
— Что кончится?
— Война.
Я точно знаю, когда кончится война. Она кончится 9 мая 1945 года. Но для Анны она кончится раньше. Намного раньше. И я отвечаю:
— Война кончится через восемнадцать дней.
1149 год остался позади, и теперь инспектор следовал назад, в будущее… Хорошо возвращаться в будущее. Такое впечатление, что возвращаешься домой. Для некоторых прошлое — родной дом, и они всю жизнь вспоминают о нем: «Вот было когда-то…» Но для тех, кто, подобно инспектору, живет в далеких будущих временах, родной дом, естественно, в будущем, и они к нему тянутся: «Вот когда-нибудь будет»
Фридрих Барбаросса расстался с инспектором холодно, он сказал, что слышать не хочет ни о каких походах, что всю свою дальнейшую жизнь посвятит исключительно мирной деятельности. План Барбароссы был грандиозен, но истории известно, как он был осуществлен.
Полистав исторический справочник, инспектор пришел к грустному выводу, что в 1194 году не было никаких событий. Ничто в этот год не началось и не пришло к своему завершению, а продолжалось то, что было начато раньше. На папском престоле уже три года сидел дряхлый Целестин III, и оставалось ему сидеть еще четыре года. Прошло два года, как союзники Барбароссы Ричард I и Филипп II вернулись из третьего крестового похода и теперь потихоньку воевали между собой. В Азербайджане продолжал творить поэт Низами, в Китае философ Чжу Си продолжал предаваться своим размышлениям. А в Грузии продолжала царить прекрасная Тамар и великий Руставели продолжал ее воспевать.