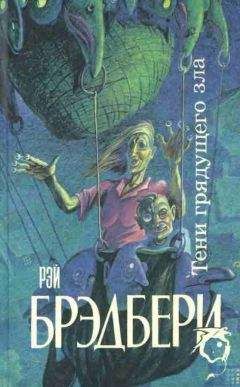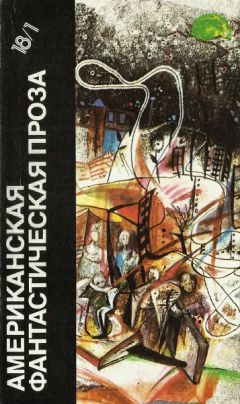Бам! Мальчики встретились.
— Слушай! — закричал Уилл. — Все бегут, словно здесь прошла буря!
— Так и есть! — крикнул в ответ Джим. — Ай, да мы!
Они били-колотили-гремели по железным решеткам, по чугунным люкам, пробежали мимо дюжины темных магазинов, дюжины полутемных, дюжины вовсе мертвых. Город вымер, когда они обогнули угол табачного магазина, чтобы взглянуть, как в темной витрине двигался деревянный индеец чероки.
— Эй!
Мистер Тетли, владелец магазина, выглянул из-за плеча индейца.
— Что, напугал?
— Нет!
Но Уилл задрожал, почувствовав вдруг приближение странного холодного дождя, обрушившегося на степь, как волны на пустынный берег.
Когда где-то в городе ударила молния, Уиллу захотелось спрятаться под шестнадцатью одеялами и подушкой впридачу.
— Мистер Тетли? — тихонько позвал Уилл.
Теперь, казалось, перед ними было два индейца, застывших в темноте, пропахшей табаком.
Мистер Тетли, забыв о своих шутках, замер и слушал, открыв рот.
— Мистер Тетли?
Он прислушивался к звукам, принесенным ветром из далекого далека, но не мог сказать, что же они означают.
Мальчики попятились.
Он не видел их. Он не двигался. Он только слушал.
Они оставили его. Они убежали.
В четырех кварталах от библиотеки на пустой улице мальчики встретили третьего деревянного индейца.
Мистер Кросетти стоял перед своей парикмахерской и держал в дрожащих пальцах ключ от двери; он не заметил, как они остановились.
Что же остановило их?
Слеза.
Сверкая, она катилась по левой щеке мистера Кросетти. Он тяжело дышал.
— Что с вами, сэр? По причине или без причины плачете вы, как ребенок!
Мистер Кросетти со всхлипом вздохнул:
— Чувствуете, как пахнет?
Джим и Уилл принюхались.
— Пахнет лакрицей!
— Нет, черт возьми, пахнет сахарной ватой!
— Я уже много лет не слышал этого запаха, — сказал мистер Кросетти.
Джим фыркнул:
— Подумаешь, да ей всегда кругом пахнет.
— Да, но кто замечает? И когда? Сейчас мой нос говорит мне: нюхай! И я плачу. Почему? Потому что я вспоминаю, как много лет назад мальчишкой я уплетал эту вату за обе щеки. Господи, почему я разучился думать и чувствовать за последние 30 лет?
— Просто вы были очень заняты, мистер Кросетти, — сказал Уилл, — у вас не было времени.
— Время, время… — Мистер Кросетти отер слезы. — Откуда взялся этот запах? Ведь нигде в городе не продается сахарная вата. Только в цирке.
— Ха, — сказал Уилл. — Это точно!
— Ну ладно, вы видите, Кросетти сделался-таки плаксой…
Парикмахер высморкался и отвернулся, чтобы закрыть дверь своего заведения, а Уилл взглянул на рекламу парикмахерской — крутящийся столб, по которому змеилась, притягивая взгляд, красная полоса: она возникала ниоткуда, струилась вверх по столбу и исчезала в никуда. Бессчетное число раз Уилл стоял здесь, наблюдая, как эта полоса появлялась, бежала вверх, кончалась, все же никогда не кончаясь.
Мистер Кросетти положил руку на выключатель, скрытый у основания столба.
— Нет, нет, — торопливо пробормотал Уилл и попросил: — Не выключайте его.
Мистер Кросетти взглянул на столб, словно впервые заметил его чудесные свойства. Он понимающе кивнул, глаза его вновь увлажнились.
— Откуда это приходит? Куда идет? Кто знает? Ни ты, ни он, ни я. О чудеса Господни! Ладно, оставим ее.
Хорошо знать, думал Уилл, что красная полоса будет змеиться до самого рассвета, что она будет появляться из ниоткуда и уходить в никуда, пока мы спим…
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи!
И они оставили парикмахера, стоящим лицом навстречу ветру, который слабо отдавал лакрицей и сахарной ватой.
5Чарльз Хэлоуэй нерешительно дотронулся до вращающейся двери бара, словно седые волоски на тыльной стороне его руки, подобно антеннам уловили нечто странное, скользившее за стеклом во тьме октябрьской ночи. Возможно, где-то вспыхнули гигантские костры, и их пламя разгорается, предостерегая его от следующего шага. Или новое Великое Оледенение уже движется через земные пространства, и его морозное дыхание может в одночасье принести гибель миллиарду людей. Возможно, само Время вытекало из необъятных песочных часов, где темнота превратилась в пыль и грозила засыпать, похоронить под собой все окружающее.
Или, может быть, это был всего лишь человек в черном, заглянувший в окно бара со стороны улицы. Одной рукой незнакомец придерживал зажатые под мышкой бумажные рулоны, в другой у него были щетка и ведро; и насвистывал он при этом вовсе неуместную сейчас мелодию.
Мелодия эта была из другого времени года и всегда навевала на Чарльза Хэлоуэя печаль, стоило ему краем уха услышать ее. Нелепая в октябре, она, тем не менее, звучала очень живо, и так трогательно, что казалось уже не имеет значения, в какой день и в каком месяце ее поют:
Рождественского колокола звук.
Мне песню старую напоминает он.
Щемящие и сладкие слова
Все повторяют, что любовь жива,
Что мир земле и счастье людям
Веселый перезвон сулит!
Чарльз Хэлоуэй затрепетал. Его охватило давно забытое чувство какого-то упоительного восторга, желание смеяться и плакать одновременно; он увидел невинных земных чад, скитающихся по заснеженным улицам в день перед Рождеством среди усталых мужчин и женщин, чьи лица были осквернены грехом, отмечены пороком, искалечены, разбиты жизнью, которая била без предупреждения, затем убегала, скрывалась, возвращалась и снова била.
Сильнее праздник колокол качнул:
«Нет, Бог не умер, внаем — он уснул
Пусть сгинет зло,
Пусть правда возгласит,
Что мир земле и счастье людям
Веселый перезвон сулит!
Насвистывание прекратилось.
Чарльз Хэлоуэй вышел из бара.
Далеко впереди человек, насвистывавший мелодию, молча работал около телеграфного столба. Затем он исчез в открытой двери магазина.
Чарльз Хэлоуэй, сам не зная зачем, пересек улицу и стал наблюдать за человеком, который наклеивал афишу внутри пустого, еще никем не арендованного магазина.
Вскоре человек вышел из двери со щеткой, ведром клея и рулоном свернутых афиш. Его горящие глаза плотоядно посмотрели на Хэлоуэя, потом он улыбнулся и поднял свободную руку.
Хэлоуэй опешил.