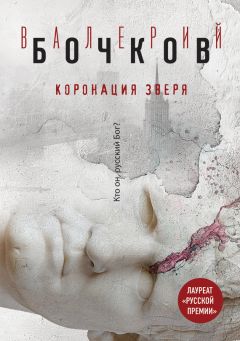Адольф вспомнил этого профессора лишь однажды, охарактеризовав его как «патологического идиота».
– Оглядываясь назад, – говорил он, – я с удивлением обнаруживаю, что все эти учителя были чокнутыми. Ненормальными. В большей или меньшей степени. Назвать кого-то из них хорошим профессионалом просто не поворачивается язык. И уж совсем трагично осознавать, что именно такого сорта люди во многом определяли направление, которое выбирал молодой человек на первом этапе своего жизненного пути.
Он никого не простил. Даже спустя много лет, даже поднявшись на вершину власти. Даже когда армии под его единоличным верховным главнокомандованием на востоке дошли до Волги, а на западе стояли у Ла-Манша, он вспоминал:
– Наши учителя были настоящими тиранами. Никакого сочувствия, никакой жалости к юным душам. Единственная цель – набить наши мозги заумной трухой и превратить всех нас в дрессированных обезьян! Таких же цирковых макак, как они сами!
В самом начале января 1903 года во время утренней прогулки его отца хватил удар; отец умер тут же, на заснеженной тропинке, от легочного кровоизлияния. Адольфу было тринадцать лет. Мать продала дом, и они перебрались в Урфар, в тесную квартиру в пригороде Линца с видом на огороды и бараки рабочих бензольного завода.
Впрочем, следующие несколько лет стали самыми счастливыми годами в его жизни. Школу он бросил, часами бродил по улицам и площадям Линца, делал карандашные наброски готической церкви Святой Марии или копировал затейливую резьбу мраморной колонны Троицы с золотыми фигурками на макушке. Теплыми вечерами, лежа в траве на крутом берегу, наблюдал за тяжелыми баржами, ползущими вниз по Дунаю.
Много читал – в основном книги по истории и германской мифологии. Тогда, в оперном театре Линца, он впервые услышал Вагнера. Неукротимая мощь, языческая страсть, нечеловеческая монументальность этой музыки стали эстетическим фундаментом его зарождающегося мировоззрения. (Любопытно, что в собственном творчестве Адольф оставался робким миниатюристом, с нерешительным штрихом и линялой палитрой; его акварельные пейзажи были похожи на рисовальные упражнения прилежной девицы из хорошей семьи.)
Через тридцать лет, уже полностью утратив связь с реальностью, он планировал превратить Линц в культурный центр не только Третьего рейха, но и всего мира. В циклопическом «Фюрермузее» с фронтоном из ста дорических колонн должна была разместиться самая большая коллекция европейской живописи, составленная из лучших полотен, вывезенных из Лувра, Прадо, Уффици и Эрмитажа. Через Дунай должен был перекинуться самый большой мост в Европе «Нибелунгенбрюкке» с гигантскими конными статуями героев германского эпоса Гюнтером и Брунгильдой на одной стороне и Зигфридом и Кремгильдой – на другой. Планировалось строительство оздоровительного комплекса «Сила через радость» с олимпийским стадионом и бассейном, сам Адольф мечтал после войны уйти на покой и поселиться в Линце, архитекторы спроектировали даже мавзолей, в котором фюрер рассчитывал разместить свой склеп.
Но все это в будущем.
А пока он бродил по неторопливым тротуарам Линца, входил в перламутровую пятнистую тень цветущих вязов аллеи Брюкнера, шел мимо уличного кафе «Зоннтаг» с круглыми столиками на гнутых венских ножках под полосатыми маркизами, шагал мимо колониальной лавки с мешками кофе и чучелом тигра за пыльным стеклом витрины. Он шел неторопливо, осторожно, словно нес что-то стеклянное, хрупкое: внутри зрело новое, незнакомое чувство, чувство, которое он боялся расплескать. Это было чувство собственной исключительности.
Карлика звали Август, он торговал кухонной мебелью и был страстным рыболовом. Август специализировался на форели: я уже знал, чем отличается ручьевая форель-пеструшка от турецкой плоскоголовой форели и кумжи, что значит ловить внахлест и на мушку, почему на лесном озере предпочтительней вечерняя зорька, а на горной речке – утренняя. Когда он показывал, как правильно подсекать, дверь открылась и его увели.
Я встал, начал ходить из угла в угол – по диагонали получалось шесть шагов туда, шесть обратно. От духоты и вони начала болеть голова. Я снова сел.
Дверь приоткрылась, я встал. В щель протиснулась бритая голова.
– Август Цоллен… – бритый запнулся. – Цоллен…
– Его увели. Полчаса назад.
Дверь захлопнулась. Я снова сел. Вместо мыслей в мозгу бродила какая-то каша – я не мог сам понять, о чем думал. Думалось обо всем сразу и ни о чем конкретно; с настырностью заевшей пластинки в голове крутилась фраза Августа: «Ах, как форель-пеструшка идет на муху!»
Я опустился на пол, несколько раз отжался. Хотел отжаться раз пятнадцать, но сдался на восьми. Тяжело дыша, поднялся, сел на скамейку, попытался сосредоточиться. Ладони стали липкими, теперь от них тоже воняло масляной краской. Я начал тереть ладони о джинсы, тихо повторяя:
– Ах, как форель-пеструшка идет на муху…
Дверь снова раскрылась, это снова был бритый.
– На выход! – буркнул он. – Руки за голову!
Я поднял руки. Мы пошли по узкой лестнице вверх, прошли мимо распахнутой двери в спортзал – там на полу, на матах лежали какие-то люди. Воняло рыбным супом. Явно не форель, явно не пеструшка. Поднялись на третий этаж. Я шагал бодро, но конвоир время от времени по неясной причине все равно нетерпеливо подталкивал меня в спину.
Широкий длинный коридор заливал свет, в большие окна высовывались макушки тополей, за ними виднелись какие-то жилые дома с неопрятными балконами, к перилам одного был привязан оранжевый велосипед.
В коридоре топтались люди, в основном мужчины, похожие на туристов или партизан. Было и оружие, я заметил несколько охотничьих ружей и один десантный «калашников». Мужики стояли группами, курили, нервно плевали на пол. Кто-то громко и со смаком рассказывал что-то похабное, под конец все хором заржали. Небритый брюнет в пиратском платке на голове, вылитый абрек, недобро улыбнулся мне и чиркнул пальцем по своему кадыкастому горлу.
На дверях белели таблички с черными буквами: «Кабинет биологии», «Кабинет литературы». Рядом с кабинетом географии на стене висела репродукция картины Сурикова «Меншиков в Березове» с треснутым стеклом. Тут же стоял настоящий солдат в полевой униформе.
– К майору, – конвоир протянул мои паспорта солдату. – Западло. Из наших.
Майор оказался женщиной. Невысокой, со злым смуглым лицом. В ней было что-то воронье – не только масть, но и повадки – цепкий взгляд карего глаза, движение острого плеча. Она, не глядя, бросила мои документы на стол, до предела заваленный бумагами, газетами, какими-то папками и прочим хламом. В углу, прямо на полу, стоял допотопный телевизор, там шли новости, но звук был выключен. Я с удивлением узнал дикторшу: это была та же круглолицая хохлушка с Первого канала, постаревшая на пятнадцать лет.