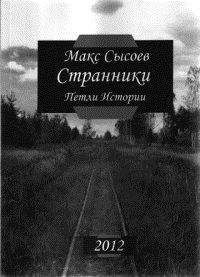— Так глупо... Что-то для себя покупать, изготавливать, зарабатывать. Делать такой длинный крюк, чтобы в конце концов вернуться к самому себе, но уже без сил и желаний, зато с грудой барахла. Глупо.
Кости в пальце — это приятно. Кости — это не деталь механизма, это нераздельное целое с нами самими. Кости, глаза, носы, кожа, — это и есть мы. Шевельнуть бровью равносильно тому, чтобы подумать о чём-то. Мы — следствие причины, называемой словом «тело». Пульс, дыхание, — всё стремится к гармонии. Чтобы вывести себя из равновесия, нужно постараться. Покушать токсичных яблок. Или продуктов фармакологии, придуманных теми, кто никогда в жизни не задумывался о путешествии в собственный палец. Или... или не обращать на себя внимания.
Я знаю, я жил том веке. Рядом с телефонами и нехваткой денег, и автомобилями под окнами, с интересными фильмами по телевизору и непредсказуемыми встречами в виртуальной реальности кажется нелепостью взять — и подумать о себе. Не об уборке. Не о загробном мире. Не о планах на будущее. Конечно, всё это было нужно «всем»... Пока «все» были. Пока существовала возможность сказать «делай как все», или «не как все».
«Всех» нет. Есть мы. И чем меньшим количеством вещей мы владеем, тем меньшее количество вещей владеет нами. Сложно повернуться спиной к действительности, когда на нас висит столько мелочей и главный девиз мещанина — «искать приятное в мелочах».
— Тебе кажется, будто ты знаешь что-то важное. Забудь и это. Прежде чем узнавать важное о мире, ты должен узнать важное о себе.
***
Я ходил вокруг источника боли, как вокруг горящего дома. Боль была красной. Все представляют себе боль красной, потому что так удобнее для сознания. Так решил оформить наше восприятие Главный Теоретик.
Я видел себя изнутри. Я стоял над красным пятном боли и старался сжать её в кулаке, чтобы она погасла. И боль медленно сжималась. Пустота, боль, величиной с горящий дом, и огромный-преогромный кулак силы воли и силы разума, сжимающий в себе пожар.
Я стоял спиной к действительности сколько-то времени, и ничто не должно было нарушать пустоту.
Но в неё вкрались звуки ветра.
Ветра, который помогал мне задувать темнеющий пожар.
Вкралось тусклое солнце, висевшее по ту сторону Земли.
Солнце, которого мне очень не хватало.
Вот оно. Магическое единство мира.
«Странно, — думал я, глядя на танцующие в темпе танго языки собственной боли, — человек так связан с внешним миром, что невозможно провести чёткой границы между одним и другим. Восходит луна, и наша кровь, как океан во время прилива, притягивается к ней, притягивается к солнцу. Через космос летит электромагнитное торнадо, и распределённые по нашему телу токопроводящие частички меняют свой узор, сообразно его прихоти. Самые различные вещества из еды, воды, воздуха проходят сквозь нас, становясь нашими частями. Внешне мы сохраняем форму человека... Но возможно ли в этом хаосе остаться самими собой? Злой от боли, нервный от голода, угнетённый перед рассветом, ничего не соображающий от пьянства, весёлый от весеннего тепла, — какой из этих людей настоящий я? Какой из них я-нормальный? Возможно ли дважды увидеть в зеркале одного и того же человека? Можно ли заикаться о бессмертной душе там, где всё меняется ежесекундно?».
«Можно, — отвечал мне невидимый лес, и спрятавшееся дневное светило, и злые нейтрино, пробивающие Землю насквозь в бесцельном полёте через бесконечность. — Можно. Просто ты видишь жизнь не там, где она находится. Жизнь — как жидкость, а мы — её капли. Жизнь, она одна на весь мир, а мы — лишь её формы. Ты и есть жизнь. Ты то, что ты ешь, что ты пьёшь, вдыхаешь, слышишь, думаешь. Ты — атмосфера, земля, информация. Ты — это твоя мать, твой отец, чужие матери и отцы, обезьяна, догадавшаяся взять в руки заострённый ею камень, и обезьяна, ещё не догадавшаяся так сделать, и дерево, и гриб, и динозавр, и пчёлка, и трилобит. Простейшее существо, зародившееся в океане докембрия, — это и есть ты. Только ты сильно вырос. А то, что называется душой, — то лишь один из цветков в оранжереях эволюции, — и цветок отнюдь не бессмертный. Когда-нибудь он отцветёт. Но из него должны образоваться вечные плоды».
Думаю, нет ничего проще, чем затушить боль, сжав её как следует в кулаке.
***
— Как ты? — спросила Света, завалившись поздно ночью в кровать и разбудив меня.
В двадцать втором веке фонетика русского языка изменилась: звуки «з», «с», «ч», «щ» стали произноситься несколько резче, а ударение наоборот сделалось более плавным, и в речи людей будущего появлялось какое-то прищебётывание. Свете такое произношение шло; оно делало её образ ещё милее и мягче, и в то же время усиливало ощущение фантастичности всего происходящего.
— Как ты? — повторила она.
— Fine, как говорят англичане.
— А по-русски?
— По-русски нельзя, а то недолго и правду сболтнуть.
— Так сболтни. Правду надоговорить.
— Правду?.. А она есть? — как и все люди, воспитанные на постмодернистском искусстве, я имел право сомневаться в существовании правды и объективной истины.
— Представь себе.
— И как она выглядит?
— Ты расскажешь, как себя ощущаешь, — вот и правда.
— Да? И зачем оно нужно?
— В твоей эпохе не знали, к чему говорить правду?
— Нет. А в твоей знают?
— Конечно! Ложь чуть не погубила мир. Если не приучиться к правде, рано или поздно конец света повторится.
— Да ну, ерунда какая! Я, конечно, не знаком с новейшей историей, но, наверное, конец света случился не из-за того, что говорили «fine».
— Именно из-за этого! Люди спрашивали: «Как там глобальное потепление?», — а им отвечали: «Fine, всё в порядке, его придумали свихнувшиеся экологи». Люди думали: «Как там ядерные ракеты?» — и отвечали сами себе: «Fine, всё под контролем, нечего забивать голову философскими проблемами». И когда началась мировая война, они улыбались друг другу на улицах и говорили: «Fine!».
— Это был другой «fine». Он касался всех, а мой касается только меня.
— Правду нужно говорить всегда. Чтобы приучиться к ней. Сначала она будет казаться сложной, грубой и невозможной, но пройдёт пара лет, и она станет не менее красивой, чем ложь. Да и вот чего я не понимаю… Зачем говорить «fine» мне, человеку, который хочет тебе помочь? Зачем усложнять то, что до предела просто? Ответь! — я же ответила тебе, зачем нужна правда.