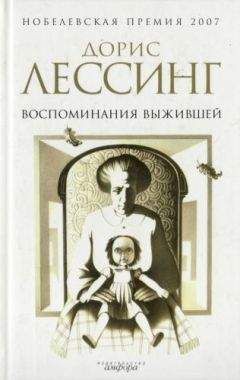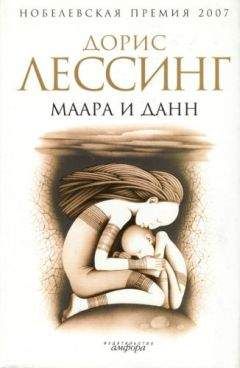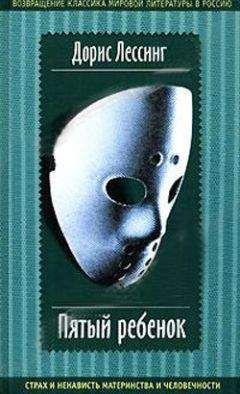Больше всего меня беспокоила ее не знающая границ предупредительность и послушность. Когда я по утрам просыпалась, Эмили уже давно не спала. Одетая в одно из своих аккуратных платьиц, расчесанная, с вычищенными зубами, девочка вместе с Хуго поджидала меня на диване и сразу начинала щебетать, взахлеб рассказывая, как чудесно она выспалась, что ей снилось или думалось, — и все это как-то торопливо, как будто предвосхищая мои вопросы или опасаясь услышать с моей стороны осуждающие реплики. Потом Эмили переходила к теме завтрака, как она рвется его приготовить. В сопровождении Хуго мы перемещались в кухню, где девочка принималась хлопотать, а мы с животным садились и наблюдали за ней. У нее и вправду все отлично получалось, и вскоре мы уже завтракали. Хуго сидел рядом с Эмили, внимательно следил за нашими лицами, за нашими движениями. Когда ему что-то предлагали, брал аккуратно, по-кошачьи. После завтрака Эмили всегда вызывалась вымыть посуду. «Мне нравится, правда! Никто не верит, а мне нравится». Она мыла посуду, убирала кухню. Комната ее уже была убрана, кроме кровати, вечно представлявшей собой как будто застывший водоворот из одеял и подушек. Я ее этим гнездом беспорядка ни разу не попрекнула, ибо лишь радовалась, что у Эмили осталось прибежище от наложенной на себя ужасной повинности быть постоянно бодрой, образцовой. Иногда посреди бела дня девочка вдруг, как будто не в силах более играть навязанную себе роль, уходила в свою спаленку, закрывала дверь и, я это знаю, зарывалась в одеяла, заползала в свое гнездо беспорядка, отдыхала — от чего? В большой комнате Эмили обычно сидела на диване, поджав под себя ноги, в позе, дышавшей покорностью и ожиданием приказаний. Она много читала. Выбор книг для чтения меня поражал: развитой вкус взрослого. Если хорошенько подумать, сопоставив то, что она читала, с ее детской манерой поведения, можно было прийти к выводу, что Эмили просто издевалась надо мной. Иногда она сидела в обнимку со своим желтым зверем, он вылизывал хозяйке ладонь, опускал морду на ее руку и громко, на всю квартиру мурлыкал.
Была ли она существом подневольным?
Об этом я не спрашивала. Такого вопроса я ей не задала. А сама Эмили не рассказывала о прошлом. У меня разрывалось сердце от жалости, и в то же время меня мучило раздражение от сознания невозможности проникнуть за воздвигнутый ею барьер. Вот она в образе строгой серьезной девочки, аккуратной до абсурдности, в аккуратном платьице, закутанная в одиночество, отгороженная неприступной наблюдательностью — и тут же она взрывается болтовней, превращается в инструмент для развлечения. Но почему? Я не считаю, что в моем поведении проскальзывало что-то угрожающее. Мне казалось, что я едва существую, что я представляю продолжение ее самой. Что-то вроде ее родителей, няньки, опекуна. А когда мне придется покинуть это место, Эмили надо будет передать кому-то еще? За ней вернется мужчина, оставивший ее у меня? Родители отыщут дочку? Что мне делать с девочкой? Ведь я в жизни не помышляла о такой ситуации… Ребенок… Ответственность за него… Да к тому же она растет! Всего лишь за несколько проведенных у меня дней у Эмили появилась грудь, распирая детские платья. Изменился и овал лица. Одно дело девочка, пусть даже девочка с моськой или с киской, но совсем другое — девушка. Особенно в такие времена.
Сама себе противореча, могу утверждать, что раздражала меня и ее лень. Хотя, много ли дела в моей квартире? Эмили часами сидела у окна, следила за прохожими, впитывала каждую мелочь, развлекала меня замечаниями. Очевидно, девочку и прежде считали занимательным собеседником, кого-то развлекали ее замечания. Здесь я снова несколько теряюсь, ибо замечания эти явно не соответствовали восприятию двенадцатилетней девочки. Хотя, возможно, я просто отстала от жизни, не учитываю сложности условий, в которых приходилось тогда жить детям.
Выходил из дома профессор Уайт, спускался с крыльца, останавливался, оглядывался, чуть ли не в позе часового: «Стой, кто идет!» Затем как-то приосанивался, как будто вот-вот вытащит перчатки или поправит шляпу. Профессор Уайт — мужчина поджарый, моложавый, даже молодой, ему еще и сорока нет. Четко артикулированный господин, в его жизни всему отведено свое место. На лице Эмили при виде профессора всегда появлялась знающая усмешка, как будто говорящая: «Ага, попался!» И, вороша желтый загривок своего питомца, девочка как-то изрекла:
— Он выглядит так, будто сейчас перчатки натянет.
В другой раз она проронила:
— У него кошмарный характер.
— Почему ты так думаешь, Эмили?
— Ну, все время за собой следит, вечно такой чистенький, аккуратненький… Должен же он когда-нибудь сорваться.
В третий раз девочка заметила:
— Если у него есть любовница, то уж конечно с подмоченной репутацией. И это его страшно злит. — Возможно, она и не ошибалась.
Я обнаружила, что выискиваю для себя повод посидеть в гостиной и послушать замечания Эмили. Хотя порой ее ядовитые реплики вызывали у меня смешанные чувства.
О Дженет Уайт, девочке примерно своего возраста, она однажды высказалась:
— Ну, эта всю жизнь будет искать кого-нибудь, похожего на папочку, но где же ей такого взять! Нет таких больше.
Эмили, конечно, имела в виду всеобщий развал, не способствующий воспроизводству респектабельных профессоров в белоснежных незапятнанных рубашках со скрытыми страстишками к девицам с запятнанной репутацией. Время отменило понятие респектабельности и стерло различия между репутациями. Профессора Эмили называла Белым Кроликом, его дочь — Папенькиной Дочкой, добавляя при этом, что и сама относится к той же категории. На мое замечание, что ей, может, стоило бы подружиться с Дженет, она только усмехнулась:
— Я? С этой?
Большую часть дня Эмили проводила в большом кресле, придвинутом к окну, и держала себя, как ребенок. Ей бы подошли белые носочки на пухлых ножках, бант в волосах. Но ноги ее обтягивали джинсы, а плечи прикрывала отглаженная утром рубашка с двумя незастегнутыми верхними пуговицами. Волосы Эмили теперь разделял прямой пробор, и можно было сказать, что она молниеносно превратилась в красотку молодую. Подтверждая этот шаг в опасную сторону, замечания ее по большей части относились теперь к проходящим мимо молодым людям. У одного смешная походка, выдающая его неуверенность в себе, у другого манера вычурно одеваться, у третьего прыщи на физиономии или всклокоченные волосы. Эта шагавшие мимо окон малопривлекательные личинки неотвратимой силы, от которой нет спасения, вызывали у нее плохо замаскированный ужас.
Эмили подавляла меня точностью высказываний по многим причинам, одной из которых было мое собственное прошлое. Однако сама она этого даже и не подозревала, считая, что таким образом проявляет свою благодарность, развлекая меня проницательными наблюдениями. Никто не проскользнул мимо нашего окна неоплеванным. Умное дитя, сообразительное, наблюдательное. И привыкшее к тому, чтобы ее за эти качества хвалили.