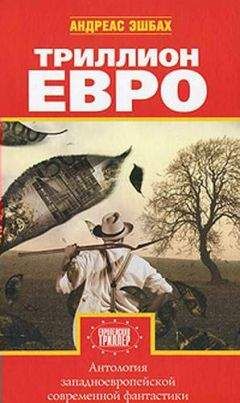После той неудачной пьянки попал к нам в дурку еще один типус, капрал, залетевший по обкурке. Саша Рак его звали. Серьезно, Рак у него фамилия была. Он жутко матюгался, третировал санитарок и божественно играл в шашки. При этом его преследовали жуткие глюки. Сидит Саша Рак у окна и талдычит нам:
— Братаны… в натуре… я дома… Я закрою глаза и считаю: раз, два, три… и я дома. Завтра я буду дома, завтра я буду пьяный. Братаны, я знаю — у них тут видеокамеры. Вон там. И вон там. Но я их расколол. На улице меня ждут… Сегодня какое число?..
Последний вопрос он задавал очень часто. Его переклинило на Пасхе, она в тот год случилась первого апреля.
— Я знаю, сегодня первое апреля. Сегодня Пасха. Дым сигарет с ментолом. Пьяный угар качает. Я открою глаза — и я дома.
Он всегда ходил со стеклянными глазами навыкате и вызывал смешанное чувство жалости и страха.
А тут еще начал сходить с ума Серега-Акула.
Когда назначили курс лечения всей шестой, опять же после пьянки, хуже всех пришлось Сереге и Хряку, у них курс был двойной: кроме инъекций еще и таблетки. Но Хряк держался во многом благодаря Кузе: его рассказам о Серафиме Саровском и довольно оригинальной трактовке Евангелия. А Серега, ранимая душа художника в котором не могла спокойно переносить четыре стены дурки, стремительно терял связь с реальностью.
Акулой его прозвали за маленькую статуэтку из хлебного мякиша, замешанного с солью и жженой бумагой, которая называлась «человек-Акула». Я не сильно разбираюсь в искусстве, но эта работа произвела на меня большое впечатление. Ощерившаяся пасть, торчащий из спины плавник и изящно сплетенные ноги, под определенным ракурсом напоминающие акулий хвост, по сей день вспоминаются так живо, словно я держу «Акулу» в руках.
Серега начал заводиться с полуоборота, нападал на Гуся, и в конце концов дошло до того, что его положили в палату для тяжелобольных, то есть для настоящих психов.
Как-то раз Гусь вывел Серегу из себя своей «Гуд бай, Америка, о!», и Серега, тощий, ослабленный лекарствами Серега вырвал дужку у койки и погнался за Гусем с криком «Убью, гад!». Дежуривший в этот вечер Женя едва успел перехватить Акулу.
Серегу привязали к койке, укололи, и на следующий день он ходил, как водолаз: медленно и плавно.
Хряк выдержал. Кроме рассказов и разговоров с Кузей, он начал рисовать. Сюжеты его рисунков были предельно просты: «Иисус и Звезда Вифлеема», «Крещение», «Поцелуй Иуды». Как-то, когда Хряк рисовал Кузе «Воскресение», я спросил просто и ненавязчиво:
— Ты что, в Бога веришь?
Хряк пожал плечами и продолжал рисовать.
— И в чудеса веришь? — задал я очередной вопрос.
Тогда Хряк отложил карандаш с тетрадкой, посмотрел на меня с интересом и спросил:
— А ты? Ты сам во что-нибудь веришь?
— В себя, — дал я припасенный как раз для такого случая ответ.
Хряк задумался. Кивнул. Лицо его, совсем не походившее на свиное рыло, даже неясно, почему его так прозвали, из-за лекарств стало бледным и неживым.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Значит, всему есть объяснение, более или менее разумное, так?
Я кивнул и проглотил слюну — в горле пересохло. И тогда Хряк сказал:
— Ты молодец, Маяк, ты все правильно думаешь. Ты здесь с мая, если я точно помню?
В ответ на мое согласие Хряк продолжил:
— Тогда ты помнишь, что отопление в мае уже отключили. И если ты сейчас проверишь батареи во всех палатах, то убедишься, что все они холодные… Если тебе не трудно, проверь их, с первой по пятую.
То ли тон его заставил меня встать и пойти проверить батареи, то ли глаза его так таинственно сияли, что отказаться было невозможно, но я сделал то, о чем он попросил.
Батареи действительно были холодны, как могила.
— А знаешь ли ты, — спросил Хряк, когда я подтвердил его постулат о батареях, — что Ильдус ставил брагу три месяца: апрель, май и июнь? Проверь батарею в нашей палате.
Я пошел бы туда и без его приглашения…
К нашей батарее невозможно было прикоснуться. В ней было больше ста градусов, она шпарила, как паровой котел. Ради эксперимента я поднес к ней перышко, извлеченное из подушки. Оно начало тлеть. Однако краска на батарее не пузырилась, подоконник не обугливался. И тут, несмотря на волны жара, исходившие от батареи, мне стало холодно и зябко. Я вернулся к Хряку. Он дорисовывал «Воскресение» и, когда я тихо сел рядом с ним, сказал:
— Именно из-за того, что некоторые вещи нельзя объяснить…
— Например, как стрелять из пальца? — спросил я.
Хряк промолчал. Я решил, что он больше ничего мне не скажет, но он просто думал.
— И это тоже, — сказал Хряк, — хотя стрелять можно не только из пальца. И именно потому, что некоторые вещи не поддаются логическому объяснению, нужно хоть во что-нибудь верить. И лучше всего — в Бога. Кузя, готово!
Кузя, слегка смущенный, но счастливый, получил рисунок и долго его разглядывал. Потом он закрыл тетрадку и пошел в палату поплакать. Он всегда плакал над рисунками Хряка.
Жизнь в психушке текла своим чередом. Уколы, процедуры, каждый день похож на предыдущий.
Потом повесился косарь Аркашка. Его лицо было всем противно: прыщеватое, вытянутое, похожее на фурункул. Всякий раз, когда должна была случиться комиссия, он ходил грустный и предупреждал, что этой ночью будет вешаться. Он и вправду брал с собой простыню и шел в туалет. Санитарки уводили его оттуда, медсестра колола аминазин — и Аркашка засыпал сном младенца. Но тут что-то случилось, чего не понял никто: Аркаша никого не предупредил и повесился прямо в палате, на своих кальсонах. Его увидел ночью другой висельник, которого все звали Фазой Наебло. Это был огромный еврей, пытавшийся в части повеситься на проводах. Спасло его короткое замыкание — провод перегорел, и этот двуглазый Моше Даян рухнул с трехметровой высоты — вешался он на столбе. Он вскочил с койки, подхватил голого по пояс, если смотреть внизу, Аркашу и заорал благим матом:
— Аркашка вздернулся, суки!
Откачать Аркашу не удалось, он умер за полчаса до того, как его вытащили из кальсон. Удивительно в этой истории то, что бесшумно удавиться не может никто. Можно незаметно перерезать вены, можно травануться, даже застрелиться при желании можно без шума, а вот вздернуться в двух метрах от бодрствующей санитарки, да так, чтобы не слышны были хрипы, чтобы не опорожнился ни мочевой пузырь, ни кишечник (а перед смертью Аркаша в сортире не был), — этого не может никто. Я долгое время пролежал среди специалистов, так что поверьте мне.
Однажды ночью, дня через четыре после смерти Аркаши, мы со Студентом разговаривали после отбоя. Он сказал: